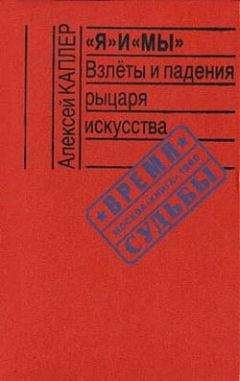Те, кому заказывал работу Грек, явились к нему в кофейню, как было обусловлено. Пошел и Козинцев. Но как-то очень скоро вернулся и стал набивать холст на подрамник, готовясь, видимо, работать.
Я спросил, сколько он получил.
Но Козинцев, не ответив, заговорил о чем-то другом.
И только гораздо позже, может быть через месяц, он, смеясь, рассказал, как надул его Грек.
В день выплаты гонорара Козинцев явился в кофейню, где Грек отыскивал в самодельной ведомости очередного художника, платил ему произвольную, самим Греком назначенную сумму и давал расписываться на чистом листке бумаги.
Художники – по большей части народ немолодой и голодный, – не возражая, получали то, что давал Грек, и ставили подписи на чистых листках. Вероятно, многие из них понимали, что тут дело не чисто и их обманывают, но доказательств у них не было, и они безропотно подчинялись установленному Греком мошенническому порядку.
Когда дошла очередь до Козинцева, Грек полистал свои бумаги и заявил, что его имени вообще в платежной ведомости нет.
Он смотрел не мигая своими наглыми, воровскими глазами и повторял, что денег для Козинцева никаких нет.
Козинцев, и без того человек неприспособленный, неумелый в делах материальных, тут просто растерялся от нескрываемой наглости Грека и так и ушел, не получив ни гроша.
Мы были возмущены до последней крайности, собирались пойти к Греку, но праздник давно прошел, все плакаты использованы «на фанеру», доказать ничего невозможно, да и другие дела к тому времени захватили нас.
Однажды Козинцев не пришел на встречу, назначенную накануне.
Утром я отправился на Марино-Благовещенскую, где жила их семья.
Дверь открыл низенький доктор Козинцев. Он плакал.
– Сыпной тиф…
Сыпной тиф! Он косил в тот год беспощадно. Сыпняк обозначал почти верный смертный приговор.
Родители к Грише не пускали, и друзья постоянно топтались на лестнице, ожидая известий о его здоровье или какого-нибудь поручения – сбегать в лавочку, в аптеку…
И все-таки мы попали к нему, когда дома была одна только Люба.
Она выглянула на лестницу и сказала:
– Ладно, идите, только ненадолго.
Мы вошли, ступая на носки.
Электричества в Гришиной комнате не зажигали, хотя сквозь замерзшее окно едва пробивался серый свет ранних зимних сумерек.
В этом тусклом свете все казалось серым.
Все, кроме подушки. Она светилась ясно-белым квадратом. На этом квадрате лежала остриженная голова. Глубоко запавшие глаза закрыты, вены вздулись на тоненькой шее.
С запекшихся губ срываются какие-то бессвязные, невнятные слова, обрывки фраз.
Мы смотрели на своего друга, думая, что видим его в последний раз.
Он стал совсем маленьким – одеяло почти не было приподнято там, где лежало тело.
В бессвязном бормотанье порой звучали совсем детские интонации – так жалуется ребенок матери.
Неожиданно бормотанье сложилось в отчетливые, связанные фразы. Мучительно сдвинулись брови, и мы услышали:
Я думал, что сердце из камня,
Что пусто оно и темно…
Пускай в нем огонь языками
Походит – ему все равно…
Мы переглянулись и замерли.
Услышав голос, появилась в дверях, кутаясь в теплый платок, Любовь Михайловна.
А Гриша все продолжал, то задерживаясь на каком-нибудь слове, то убыстряя речь:
Я думал, что сердцу не больно,
А больно – так разве чуть-чуть.
Но все-таки лучше – довольно,
Задуть, пока можно задуть…
И снова невнятица, отдельные слова, бред…
Когда прошла самая опасная – третья неделя болезни и миновал грозный кризис, когда стало ясно, что друг наш выкарабкался, выжил, нас стали к нему пускать каждый день.
Мы рассказали ему историю с его неожиданной декламацией и показали записанный тогда же текст.
Козинцев хохотал и переспрашивал:
– А не врете? Не розыгрыш?
Просил еще раз прочитать текст и снова смеялся.
Любовь Михайловна подтвердила верность нашего сообщения.
– Да я никогда в жизни не знал таких стихов. И сейчас не знаю! И не слышал никогда…
Он говорил, конечно, правду.
Как, когда, каким образом неосознанно услышались и где-то в глубинах памяти сохранились эти строки Аннен-ского – такие неподходящие его вкусу, почему они возникли в бреду? Так все и осталось тайной.
Как часто люди, которые сталкивались с Козинцевым, замечали его необыкновенную душевную деликатность, опасение обидеть слабого.
В те далекие времена жил у нас в Киеве старик Баскин-Серединский. Лет ему было за девяносто. Его давно уже содержали внуки и правнуки, которых было великое множество.
При знакомстве он протягивал руку и неизменно говорил:
– Баскин-Серединский. Поэт. Ученик графа Льва Николаевича Толстого. Ясная Поляна.
Учеником Толстого он был, видимо, только в том смысле, что считал себя его последователем.
Вероятно, старик был не совсем в норме. Киевляне относились к нему с добродушной усмешкой.
Но в дни, когда он появлялся на улице возбужденный, размахивая зонтиком, в сдвинутом на затылок коричневом котелке, в распахнутом своем стареньком пальто – полы по ветру, – в такие дни все старались избежать встречи с ним. Это означало, что Баскин написал новую поэму и ищет жертву – кому бы ее прочесть.
Мы боялись его как огня и, завидев вдалеке коричневый котелок, в котором он проходил всю жизнь, бросались наутек.
Мы, но не Козинцев.
Козинцев шел навстречу старику, и счастливый Баскин бросался к нему и говорил (всегда одно и то же):
– Гриша! Я написал новую поэму. Сейчас я тебе ее прочитаю.
Он вдвигал Козинцева в какую-нибудь подворотню или в подъезд, а если ничего подходящего рядом не было – просто прижимал его к стене и, взмахивая зонтиком, читал свою новую поэму.
Большинство из них были бесконечны.
Но попадались и совсем коротенькие, состоящие из одной только строфы. Они тоже назывались поэмами.
Со временем они стали уже чем-то вроде фольклора и даже обрастали новыми строчками.
Я помню некоторые из этих «поэм»:
ПОЭМА ДОМАШНЯЯ
Долгий дождь стучит по крыше,
Как земля стучит об гроб.
Под полом докучной мыши
Слышен жуткий скрип и скроб.
ПОЭМА ПРО КИЕВ
Старый Киев точно вымер
В воздухе пустом.
Лишь один стоит Владимир
Со своим крестом.
Приписывалась Баскину-Серединскому и «Поэма военная».
Не поручусь, что это тоже его сочинение, но, во всяком случае, оно совсем в его духе.
Взгляни же в пропасть перейденный,
Как мы страдали все во мгле,
Семен Михайлович Буденный
Летит на рыжем кобыле.
Если даже к этим строкам и прикоснулась чья-либо рука, то характер, смысл, стилистика и лапидарность поэзии Баскина-Серединского в них сохранены.
Я вижу фигуру Баскина, размахивающего зонтиком в такт чтения, и Козинцева, прижатого им к стене дома на Крещатике. Вижу прохожих, усмехаясь обходящих стороной эту группу.
И я помню, как однажды, подойдя близко, увидел взгляд Козинцева, увидел, как он смотрел на старика – с какой болью и жалостью, изо всех сил стараясь ничем не выдать своего чувства и безукоризненно вежливо слушая его.
В доме Козинцева даже теперь, когда ушел навсегда хозяин, в оставшемся неприкосновенным кабинете лежит на полке улыбающийся Петрушка.
Появился он все в том же Киеве – городе нашей юности в далекий, тяжелый, голодный год.
Та кукла, которую надел когда-то Козинцев на правую руку, начав этим свой путь в искусство, этот широко улыбающийся Петрушка с вырезанной из дерева головой как талисман прошел с ним всю жизнь.
Только улыбка его кажется мне теперь совсем, совсем невеселой.
Мы завидовали умению Сергея балансировать поставленной на кончик носа тросточкой.
Это было удивительно! Самая обыкновенная тросточка, с которой Сергей постоянно разгуливал, держалась какой-то волшебной силой на самом кончике его носа, опровергая законы физики.
Сотни раз каждый из нас безуспешно пытался проделать этот трюк, но тросточка неизменно сваливалась с благородного козинцевского носа, а на моей картошке она вообще не желала задерживаться даже на одно мгновение.
Впрочем, через некоторое время Юткевич был разоблачен: обнаружив на кончике его несколько вытянутого носа небольшое углубление, мы решили, что именно благодаря этому так прочно стоит проклятая тросточка, и объявили Сергея шулером.
Мы дружили – Козинцев, Юткевич и я.
И Козинцев и Юткевич в пятнадцать лет были вполне законченными театральными художниками. Они писали эскизы к предполагаемым постановкам русских народных балаганных представлений и к итальянским народным комедиям: писали Арлекинов, капитанов, Коломбин, всяческих Панталоне, Труффальдино и т. п.
Помнится, волшебные сказки Карло Гоцци были у нас в чести, а пьесы Гольдони почитались уже слишком реалистическими.