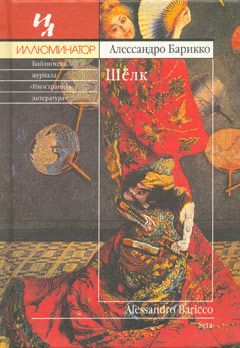Виктор Николаевич взял с полочки шампунь и переключил кран. Добавил горячей воды и стал мыть голову.
Крохин поддержал версию Шмакова. Правда, дал ее новое ответвление. По мнению психотерапевта, автор романа не насильник, а рядовой псих. Его нужно искать среди тех, кто поступает в больницы с попыткой суицида. Живой ли? Живой! У таких склонность к ложным суицидам. Их опыты неудачны: то доза лекарства мала, то вовремя скорая приехала, — их цель, часто ими и не осознанная: привлечь к себе внимание.
— Хотя эксперимент мог оказаться и успешным, — усмехнулся врач, он был циник.
Чем-то Евгений похож на Шмакова. А Зинаида — на Нинель. Тоже — гордячка, а с кем роман? Со Шмаковым!
Ляхов усмехнулся пренебрежительно и вспомнил сумрачную фигуру, неласковый взгляд, голые замерзшие руки и… И сел. И струя воды обожгла колено.
— О, черт! — скривился Ляхов. И закрыл воду. И встал, протянул руку к полотенцу, стараясь не делать неловких движений, чтобы не потревожить видений.
Больной взгляд Шмакова и его реплики по сюжету романа: у психа бывают минуты просветленья. Слезы Нинель, и ее заметки на полях, и тирада о всеобщей причастности к убийству. Странная молчаливость и подавленность Першина.
Да, чутье Виктора Николаевича не подвело. Роман написала Лисокина. Герой романа — Шмаков. Осталось разгадать, что легло в основу: замысел Шмакова, его рассказы о подготовке преступления или его исповедь, покаяние.
Замысел! Безусловно. Отсюда слезы Нинель, отсюда ее нервозность. Возможно, Нинель пыталась переубедить Антона и думала, что публикация романа его остановит, а возможно, полагала, что Шмаков лишь фантазирует, а теперь, когда убийство свершилось, вся жизнь Лисокиной может рухнуть в одночасье. Теперь ей нельзя признаться в авторстве романа: и Антону подпишет приговор, и себя сделает соучастницей преступления. И их любовная связь станет достоянием прессы. Нинель может потерять все: достаток, любимого, дочь, положение, работу и, может быть, свободу.
Ляхов осторожно повесил полотенце и медленно, стараясь ничего в себе не тряхнуть, пошлепал к письменному столу.
* * *
Как ни старалась Валентина убедить мужа в его непричастности к истории романа, Владимир Иларионович чувствовал себя соучастником преступления.
Кто автор романа? Кто автор того рекомендательного письма, что он, Першин, переслал Фаине, запустив маховик признания — кого? Преступника? И письмо ему, Першину, как мальчишке, как сосунку, прислал под чужой подписью — кто? Убийца прислал ему, Першину, письмо, сыграв на струнах его души, как на заурядной трехрядке?
Першин хотел видеть автора где угодно, только не в своей редакции. Он решил было, что автор романа очередной компилятор — милиционер, что пишет по материалам дел. Вот и объяснение привязанности к деталям. Ведь детали — путь к разгадке убийства. Впрочем, много они раскрывают тех убийств, все больше в детективах да сериалах. Но и в романе убийца не найден. Великолепно. Какой подтекст… Нет! Милиционер — сочинитель не оставил бы преступление нераскрытым. Да какой милиционер?! Язык романа литературный, причем нарочито, подчеркнуто литературный. Автор романа — литератор, и от этой данности не уйти.
И все же Владимир Иларионович встретился со знакомым следователем. Но тот на вопрос, кого из его коллег могло как писателя заинтересовать убийство публициста Якушева, отмахнулся пренебрежительно: очередное квартирное ограбление; если оно и имело некоторый резонанс, так лишь потому, что старик был популярным в прошлом публицистом да знали его в определенных кругах как коллекционера золотых монет. «Монеты и не найдены, — как великую тайну шепнул следователь, но тут же добавил обычным тоном, — хотя старик мог их продать».
— А контакты? — спросил Владимир Иларионович. — Установлены?
— Да так… — следователь поморщился. — В квартире найдена масса рукописей. Одна из комнат — склад макулатуры. Видимо, надеялись на протекцию, на рецензию, но рукописи, похоже, Якушев не раскрывал. Лежат стопками под слоем пыли.
— А… чьи рукописи? — спросил Першин, желая и опасаясь услышать ответ.
— Да разные. Сотни. Проверяем. Но все так… Публика несерьезная.
— Но у вас такая техника! Говорят, по пылинке можно портрет составить, — настаивал Першин.
Следователь лишь рукой махнул: преступлений — тьма, а денег — ноль.
Провожая Першина до дверей, следователь напоследок хмыкнул:
— Не имей он причастности к вашему цеху, плевали бы вы на его убийство.
* * *
Першин брел домой подавленный: значит, автор романа — литератор, и он же, литератор, — убийца?
И только один литератор приходил Першину на ум, только один был и талантлив, и озлоблен, и осведомлен о его, Першина, привычках и повадках.
Нет! Убийца не описал бы преступление так, как оно описано в романе. Нет. Его память хранила бы иные детали, важные именно для него: не слышны ли шаги за дверью, нет ли глазка в дверях соседней квартиры, ну, что там еще могло быть важным для убийцы, — но не аромат «Ivoir de balmain», оставленный на лестничном пролете соседкой Старика.
* * *
Был у Першина старый знакомый, Марк Семенович Бояркин. Редко они встречались, а последние годы не встречались и вовсе. Но Владимир Иларионович знал, что Марк Бояркин жив и относительно здоров, перебивается случайными гонорарами и помогает юным.
В годы былые Бояркин писал рассказы, талантливые и злые, и имя его было знакомо читателям «Самиздата», но образования специального Марк не имел и работал не в редакции, а в театре, рабочим сцены. И жил в комнатушке за сценой. Та комнатушка в те годы была популярнее любого клуба: поэты, художники, музыканты, молодые и талантливые, — все любили в ней бывать. В комнате до утра висел густой табачный дым, грудились бутылки с дешевым портвейном, рекой лился черный кофе, и под перебор гитарных струн за столом говорили, спорили, мыслили, мечтали.
Там Першин впервые встретил Валентину. Она зашла однажды с Фаиной…
С тех пор прошло столько лет. Жизнь прошла.
Был уже полдень, однако Марк Семенович все еще разгуливал в пляжных шлепках и отрепанном махровом халате.
Жалкая однокомнатная квартирка была завалена бутылками, тетрапаками, пакетиками из-под супа; возле разбитой пишущей машинки валялись пожелтевшие газеты и скомканные листы бумаги.
— Привет, проходи, — обронил Бояркин, словно видел Першина прошлым вечером. — С чем пожаловал?
Владимир Иларионович остановился на пороге комнаты, раздумывая, где можно присесть: истертое кресло, ветхие два стула, обшарпанный диван — все было завалено книгами, журналами, стопками бумаг.
Бояркин шагнул к стулу, что стоял возле разбитого письменного стола, смахнул книги на пол: «Садись».
Першин осторожно присел на край стула.
Бояркин резким движением сдвинул груду бумаг, освобождая место на письменном столе, сел на стол и, помахивая по-мальчишески голой ногой, повторил:
— С чем пожаловал?
Владимир Иларионович не стал напускать туман и рассказал все. Вернее, почти все. Про роман.
— Читал, — глядя в пол, молвил Бояркин.
Першин оглянулся: компьютера в комнате не было. Хотя, возможно, в какой-нибудь редакции…
— Приносили, — ответил Марк Семенович на немой вопрос Першина, — на ксероксе. Или как там это теперь называется? Самиздатом, по-нашему.
— Ну и? — осторожно спросил Першин.
— Ничего. — Бояркин усмехнулся. — Знает, о чем пишет. — Глянул на Першина из-под лохматых бровей и спросил с иронией:
— Ты пришел обсудить со мной сие творение?
— А про Якушева? — тем же осторожным тоном спросил Першин. — Слышал?
— Слышал, — Бояркин перестал раскачивать ногой. — Но не оплакивал.
Першин помолчал, не зная, что ответить.
Бояркин сполз со стола, пошел по комнате, рассматривая пол. Остановился над грудой газет, постоял над ней и выудил початую бутылку портвейна.
Прошелся вновь по комнате, и появились два стакана.
— Ну, будем, — сказал Марк Семенович, подвигая один по столу к Першину.
Владимир Иларионович с тоской осмотрел липкий сосуд, сплошь покрытый отпечатками, но взял; подавляя отвращение, хлебнул мутную жидкость и спросил:
— Ты его знал?
Марк Семенович помедлил, рассматривая сквозь портвейн дно стакана. Потом резко опрокинул вино в рот и бросил на Першина из-под косматых бровей цепкий взгляд:
— Ты видишь связь между романом и убийством?
Владимир Иларионович вздохнул, покивал согласно головой и поведал Бояркину сжатую версию своей роли в истории романа.
Марк Семенович слушал, не поднимая головы от грязного пола. Потом угрюмо глянул на Першина:
— Сволочной был старикашка. Мерзкий, — и морщинистая щека задергалась от гнева.