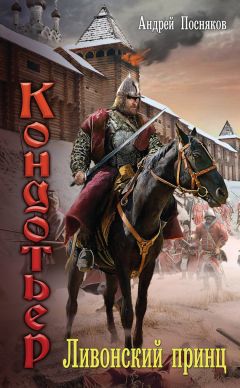Господин с тонко-выработанным пробором — сколько лысина позволяет — благоговейно склонил голову и шепчет соседу:
— А я забыл ваш телефон. Мерси. Ваграм или Сакс?
— Онз сис,[2] Ваграм, — истово крестясь, отвечает сосед.
Молится седобородый священник о русских митрополитах, может быть уже убитых, о Православной Церкви оскверненной, с поруганными иконами, с ослепленными ангелами…
— Интересно знать, — молитвенно закатывая глаза, шепчет дама, крашеная в рыжее, даме, крашеной в черное, — настоящие у нее серьги или нет.
— А мне вчера в концерте понравилось платье Натальи Михайловны. Я бы сделала себе точно такое, только другого цвета и другого фасона.
На паперти, щурясь от яркого желтого солнца, толпятся нищие… духом и толкуют про свои дела.
— Сговорились встретиться здесь с Николай Иванычем и вот уже полчаса жду.
— А, может быть, он внутрь прошел?
— Ну! Чего ради!
— О чем это там братья Гвоздиковы с Копошиловым говорят? И Синуп с ними…
— Кабаре открывать собираются.
— Не кабаре, а банк.
— Не банк, а столовую.
— Кооператив с танцами.
* * *
Надо дышать.
Пойдем в «Jardin des Plantes».[3]
Душный ветер гонит сорную пыль.
Треплет праздничные юбки, завивает их о кривые ноги воскресных модниц в нитяных перчатках и пышных шляпках (и наоборот), сбивает с шага ребятишек, подшлепываемых заботливой материнской рукой. Посыпает песком мороженое и вафли у садового ларька.
Деревья качают тяжелыми тусклыми листьями, как непроявленные картинки декалькамани.
Длинное здание с решетками. Это клетки.
В одной клетке спит большая серая птица. В другой спит-дышит чья-то бурошерстая спина. Гиена, что ли.
В третьей — лев. Маленький, желтый, аккуратный, весь вылизанный с расчесанной дьяконской гривой.
Сидит в профиль и зевает, защурив глаза.
Перед клеткой толпа в пять рядов. Напирают, давят, лезут, поднимают детей на плечи, чтобы лучше видели, как лев зевает.
Нежная мать с перьями дикобраза на шляпе высоко подняла крошечную голубоглазую девочку.
— Regarde la grosse bébête! Vois-tu la grosse bébête?[4]
Девочка таращит глаза, но между нею и «grosse bébête» поместилась толстая курносая дама с сиренево-розовыми щеками.
Девочка видит только ее и все с большим ужасом таращит на нее голубые глазенки.
— La grosse bébête!
Вырастет девочка большая и будет говорить:
— Какие у меня странные воспоминания детства. Будто показывали мне какого-то льва с сиреневыми щеками в полосатой кофте, толстого, толстого с бюстом и в корсете… Что это за львы были в те времена? Чудеса! А так ясно помню, словно вчера видела.
* * *
В ресторанчике услужающая мамзель заботливо вычеркивает перед вашим носом каждое выбранное вами в меню блюдо и, глядя в ваши, полные кроткого упрека, глаза, посоветует есть морковь.
— Des carottes.
Но ведь есть ресторанчики с определенным обедом. Это спасение для человека с дурно направленной фантазией, выбирающего то, чего нет. В ресторане с определенным обедом вам дадут две редиски, потом пустую тарелку, сбоку которой, по самому бордюру, ползет подсаленный (для того, чтобы полз) огрызок говядины. Подается он под различными псевдонимами — côtelette d'agneau, bœuf frit, chateaubriant, lapin, gigot, poulet.[5] Отвечает за быка, зайца, курицу и голубя. Не пахнет ни тем, ни другим, ни третьим. Пахнет теплой мочалой.
Потом подадут пустую тарелку.
— Отчего она рыбой пахнет?
— Saumon suprême.[6]
— Ага!
Но ее совсем не видно этой saumon suprême. Верно кто-нибудь раньше вас съел.
Потом вам дают облизать тарелку из-под шпината (в ресторанах получше музыка при этом играет что-нибудь из «Тоски»).
Потом вы облизываете невымытое блюдечко из-под варенья и торопитесь на улицу, чтобы успеть, пока не закрылись магазины, купить чего-нибудь съедобного.
* * *
Театров много. Французы играют чудесно.
В одном театре идет Ки-Ки, и другом Фи-Фи, в третьем Си-Си.
Потом вы можете увидеть:
«Le danseur de Madame», «Le bonheur de ma femme», «Le papa de maman», «La maman de papa», «La maman de maman», «Le mari de mon mari», «Le mari de ma femme».
Можете посмотреть любую; это то же самое, что увидеть все. Некоторые из них очень серьезны и значительны. Это те, в которых актер в седом парике подходит к самой рампе и говорит проникновенно:
— Faut être fidèle a son mari.[7]
Растроганная публика рукоплещет и сидящий в десятом ряду русский тихо поникает головой:
— Как у них прочны семейные устои. Счастливые!
— Fidèle a son mari! — рычит актер и прибавляет с тем же пафосом, но несколько нежнее:
— Et a son amant.[8]
* * *
Кончается душный день.
Ползут в сонных трамваях сонные лавочницы, поддерживая отяжелевших сонных ребят. Лавочники, опираясь двумя руками на трость, смотрят в одну точку. Глаза их отражают последнюю страницу кассовой книги.
У всех цветы. Уставшие, с ослизлыми от потных рук стеблями, с поникшими головками.
Дома их поставят на прилавок между ржавой чернильницей и измусленной книжкой с адресами. Там тихо, не приходя в себя, умрут они такие сморщенные и бурые, что никто даже и не вспомнит, как звали их при жизни — тюльпанами, полевыми астрами, камелиями или розами.
Устало и раздраженно покрякивая, тащат такси целующиеся парочки в нитяных перчатках и хороших шляпках (или наоборот). И в их руках умирают потерявшие имя и облик цветы.
По кротовым коридорам гудят-гремят последние метро. Качаясь на ногах, выползают из дыр земных усталые, сонные люди.
Они как будто на что-то надеялись сегодня утром и надежда обманула их.
Вот отчего так горько оттянуты у них углы рта и дрожат руки в нитяных перчатках.
Или просто утомила жара и душная пыль…
Все равно. Воскресный день кончен.
Теперь — спать.
* * *
Наши радости так похожи на наши печали, что порою и отличить их трудно…
Маленький фельетон
Не по-настоящему живем мы, а как-то «пока»,
И развилась у нас по родине тоска,
Так называемая ностальгия.
Мучают нас воспоминания дорогие,
И каждый по-своему скулит,
Что жизнь его больше не веселит.
Если увериться в этом хотите
Загляните хотя бы в «Thе Kitty»,
Возьмите кулебяки кусок.
Сядьте в уголок,
Да последите за беженской братией нашей,
Как ест она русский борщ с русской кашей.
Ведь чтобы так — извините — жрать,
Нужно действительно за родину-мать
Глубоко страдать.
И искать, как спириты с миром загробным,
Общения с нею хоть путем утробным.
* * *
Тоскуют писатели наши и поэты,
Печатают в газетах статьи и сонеты.
О милом былом,
Сданном на слом.
Lolo хочет звона московских колоколен,
Без колоколен Lolo совсем болен,
Аверченко, как жуир и фант,
Требует — восстановить прежний прейскурант
На все блюда и на все вина,
Чтобы шесть гривен была лососина,
Два с полтиной бутылка бордо
И полтора рубля турнедо.
Тоже Москву надо
И Дону-Аминадо.
Поет Аминадо печальные песни:
Аминадо, хоть тресни,
Хочет жить на Пресне.
А публицисты и журналисты,
И лаконичны, и цветисты,
Пишут, что им нужен прежний быт,
Когда каждый был одет и сыт.
(Милые! Уж будто и в самом деле
Все на Руси, сколько хотели,
Столько и ели?)
* * *
У бывшего помещика ностальгия
Принимает формы другие:
Эх-ма! Ведь теперь осенняя пора!
Теперь бы махнуть на хутора!
Вскочить бы рано, задолго до света,
Пока земля росою одета,
Выйти бы на крыльцо,
Перекинуть бы через плечо ружьецо,
Свистнуть собаку, да в поле
За этими, ушатыми… как их… зайцы, что-ли?..
Идти по меже. Собака впереди.
Веет ветерок. Сердце стучит в груди…
Вдруг заяц! Ту-бо! Смирно! Ни слова!
Приложился… Трах! Бац! Готово!
Всадил дроби заряд
Прямо собаке в зад.
А потом, вечерком, в кругу семейном чинном
Выковыривать дробинки ножом перочинным…
* * *
Ну что же, я ведь тоже проливала слезы
По поводу нашей русской березы:
«Ах, помню я, помню весенний рассвет!
Ах, жду я, жду солнца, которого нет…
Вижу на обрыве, у самой речки
Теплятся березыньки — божьи свечки.
Тонкие, белые — зыбкий сон
Печалью, молитвою заворожен.
Обняла бы вас, белые, белыми руками,
Пела, причитала бы, качалась бы с вами…»
* * *
А еще посмотрела бы я на русского мужика,
Хитрого, ярославского, тверского кулака,
Чтоб чесал он особой ухваткой,
Как чешут только русские мужики, —
Большим пальцем левой руки
Под правой лопаткой.
Чтоб шел он с корзиной в Охотный ряд,
Глаза лукаво косят,
Мохрится бороденка
— Барин! Купи куренка!
— Ну и куренок! Старый петух.
— Старый?! Скажут тоже!
Старый! Да ен, може,
На два года тебя моложе!
* * *
Эх, видно, все мы из одного теста!
Вспоминаю я тоже Москву, Кремль, Лобное место…
Небо наше синее — синьки голубей…
На площади старуха кормит голубей:
«Гули-гули, сизые, поклюйте на дорогу,
Порасправьте крылышки, да кыш-ш… Прямо к Богу.
Получите, гулиньки, Божью благодать
Да вернитесь к вечеру вечерню ворковать».
…Плачьте, люди, плачьте, не стыдясь печали!
Сизые голуби над Кремлем летали!
* * *
Я сегодня с утра несчастна:
Прождала почты напрасно,
Пролила духов целый флакон
И не могла дописать фельетон.
От сего моя ностальгия приняла новую форму
И утратила всякую норму,
Et ma position est critique.
Нужна мне и береза, и тверской мужик,
И мечтаю я о Лобном месте —
И всего этого хочу я вместе!
Нужно, чтоб утолить мою тоску,
Этому самому мужику,
На этом самом Лобном месте
Да этой самой березой
Всыпать, не жалея доброй дозы,
Порцию этак штук в двести.
Вот. Хочу всего вместе!