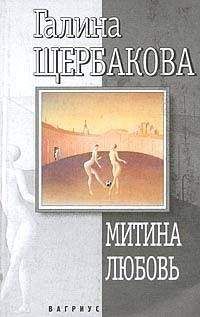Ознакомительная версия.
— Извините, Люба…
— А… а… а… — последним звуком кончилась женщина. — А… а… а… На чем она себя перекусила?
— Извините, — повторила я. — Меня, наверное, потеряли…
Одним словом, я бежала суетно, стараясь не зацепить ее глазом. Когда ненароком зацепила, передо мной стояла старая, заплетенная морщинами старуха, играющая на округлом инструменте.
Зара зажала меня своим большим горячим телом в уголке летней кухни.
— Ну? — спросила она.
— Узнала некоторые натуралистические подробности. Все-таки, — сказала я с чувством, — даже подруге я такого не скажу!
Зара выпустила меня из жарких объятий, и в этом ее отпускании я ощутила презрение. Меня это царапнуло. «Мясниковское сестринство, — подумала я. — Они заодно просто по факту прописки».
Ведь Зара мне нравилась, мне хотелось, чтоб я ей тоже… А она меня, считай, оттолкнула.
Шура же упорно меня ни о чем не спрашивала.
Когда уезжали, Люба стояла на крыльце, от него бежала желтая дорожка песка, и я подумала, что песок не такая уж редкость на этой земле, даже если он чисто вымыт.
Я не собиралась больше встречаться с Фалей, но она сама пришла на вокзал меня проводить. Вручила донской джентльменский набор. Бутылочку «Пухляковского», рыбца и домашнее варенье из райских яблок. Это было мило с ее стороны, но смутило: я ведь к ней приходила без гостинцев и даже прощаться не собиралась, ан на тебе… Получалось, она — щедрее…
— Жаль, — сказала я, — что я так и не увидела Ежика.
Фаля промолчала.
Время стремительно ссыпалось в одну ему известную щель. Так работает грохот, отделяя мелкое от крупного, одновременно подтачивая большое. Смысл грохота — спустить к чертовой матери все и затихнуть в пустоте. Я замечаю собственное трясение, знаю, к чему это — к выходу, выходу! Великое бессилие быть перед могуществом кануть…
Умерла жаркая Зара. Шура подумала-подумала и оставила себе Зарин дом. Теперь туда ходил рейсовый автобус, Зарино подворье обозвали «дачей». Шура написала: «Приезжай! Так завязался виноград, что в августе не будем знать, куда его девать». Я сумела вырваться только в сентябре…
Эта женщина, Люба, поди, совсем, совсем старуха, если вообще жива. Да и Фаля тоже. Сестра никогда о ней не писала, да я никогда и не спрашивала… Ежик… Уже вполне пожилой господин… И нахлынуло это старое, далекое, все в запахах и вкусе, как вчерашнее. А живее всех живых — Митя…
«Митя! — говорю ему я. — Я уже старше тебя почти вдвое! Как тебе эта хохма?» — «Не бери, птица, в башку, — смеется он. — Вся жизнь — сплошная кажимость…»
Все придумываю… Все… Что я вообще могу знать о Мите истинного? Но, видимо, это свойство породы — заронить в душу другого семечко, и уже этот другой холит и нежит это чужое в себе диво. Митя во мне высадил сад.
Пала ли я в кого семечком? Проросла ли?
Шура прямо с вокзала повезла меня в деревню.
— В городе все равно нет воды. Набираем ванну с ночи, так и живем.
Шура в моих глазах изменяется скачками. Кажется, совсем недавно я ее видела светлой седоватой шатенкой. Сейчас она седая полностью и, что называется, с вызовом. С вызовом тем, кто колготится с краской и пергидролью. Мне она нравится в этом своем вызове; интересно, знает ли она, догадывается, как я ее люблю? Она скажет на это: «Я стараюсь без этого обойтись. Нежность — скоропортящийся продукт. Мы — сестры. Это не любовь, это судьба».
В доме Зары остался ее дух. Я сказала это Шуре.
— Вот несчастье, — ответила она, — я держу в доме сквозняк, держу!
— Да нет же! — кричу я. — Я не о запахе. Я о духе.
— Я человек неверующий, — отвечает Шура. — А запах есть. Пахнет старой армянкой. И ничего тут не поделаешь. Внедрилось в стены. Нужен капитальный ремонт. Но ты знаешь, откуда у моего руки растут…
Наискосок, на месте Любиного домишки, двухэтажный кирпичный бастион. Спросить?
— А эта… Люба… Что с ней?
Шура пожимает плечами:
— Понятия не имею.
Вижу, что врет. Но я только с поезда, я только переступила порог, для меня стоит целое блюдо оглушительно пахнущей «Изабеллы». Я чуманею от одного натюрморта.
— Как там Фаля? — спрашиваю я, но это уже после обеда, когда нет сил двигаться, как не было их отказаться от вкуснот, и надо встать и идти куда-нибудь, идти, чтоб победить в себе то, чего больше всего хочется, — лежать и лежать.
— Я у тебя спросила про Фалю, — лениво повторяю я.
— Да ну ее, — машет рукой Шура. — Старая ведьма. Просила тебя зайти.
Только на второй день пошла я прогуляться к дому-бастиону. Румяная молодайка с откровенным деревенским любопытством тут же возникла у калитки.
— Ищете кого или так? — спросила она, жадно ощупывая мой неказистый, но неместный наряд. — Эта юбка у вас китайская? Они говнисто шьют, но материя без химии…
Нечего стесняться задавать вопросы, и я задаю:
— На этом месте когда-то жила моя знакомая. Люба Юрченко.
— Она уже давно умерла, мы подворье оформляли как ничейное… У нее ж ни родни, никого…
— А где ее похоронили?
— На кладбище, где ж еще? Не в мавзолее же… На дальнем склоне. Но точно я не знаю. Что на дальнем — знаю… Армянка покойная к ней ходила, а потом криком кричала за свои больные ноги. Это ж сначала вниз, а потом вверх. У нас же не жгут, всех в землю… Прямо горе… Людям же строиться хочется, а места нету. Все захватили мертвые.
— Это у нас-то места нет? — засмеялась я.
— Получается! — вскрикнула молодайка. — Стоймя бы уж ставили покойников, как евреи… Или, на крайность, сидьмя… А то ж навытяжку… В длину… Это ж большой получается метраж.
Румяная женщина… Просто прелесть… Русская красавица… Наше достояние… Ну что ей на все это сказать?
— Спасибо, — говоря я. — Я схожу на кладбище.
— Убедитесь сами! — кричит она мне вслед. — Убедитесь!
Я с трудом нашла могилу Любы; собственно, я не нашла и уже уходила, но шли мужики-копатели, поддатые, добрые, они и показали место. И даже сказали какие-то слова, что, мол, вполне хорошая была старуха, ну, с легким прибабахом, так кто сейчас без него? Нормальных нет — ваще!
— Я, например, — сказал один, — я, например, курей не ем. У меня сразу возникает в голове замечание, что это как бы я сам… Ничего смешного! Я ж понимаю, что дурь, а в момент еды не понимаю… А вот Коля… Коля боится летать на самолете. Правда, ему не приходилось… Но мало ли… Но он боится… И у вас тоже есть свое, просто можете не признаться… Чего это ради, скажете вы, я буду им признаваться? Кто они мне? Правильно я говорю или нет?
— Правильно, — засмеялась я. Потом я пожала их каменные, грязные лапы, что их очень расположило ко мне, и они даже предложили помянуть бабку Любу, если я выделю соответствующие средства. Я развела пустыми руками, на «говенной юбке» карманчик тоже не оттопыривался, взять с меня было нечего, кроме душевного разговора. Но он, кажется, тоже иссяк, а на подъеме возникли люди с цветами, солидные люди, не то что я, мужички мои шустро пошли им наперерез.
Люба умерла уже пять лет как. Могилка ее была проста — холмик с конусом и крестик на нем шапочкой. Я оборвала сорную траву, которая забивала стихийные ромашки, удивилась собственной печали, объяснила ее тем, что как бы пришла к собственной могиле, ведь как всякий колокол звонит по тебе, так и чужие холмики стоят тебя дожидаючи. Ну как тут не запечалишься?
Возвращаясь, решила, что к живой Фале схожу тоже. Это будет справедливо.
Попала я к ней накануне самого отъезда, все мои мысли были уже дома, и я пришла к ней, ведя себя силой. Я знала, что сын ее, Ежик, часто бывает в Москве, но не заходит же! Шура сказала, что муж Фали умер от инфаркта, что Фаля живет одна, не ладит с невесткой и балует деньгами внука.
Она была суха и стара, майор медицинской службы. Но обслуживала себя сама. В крохотной квартирке ее было опрятно, на подоконнике вовсю цвели разные цветы.
— Из-за них поменялась на первый этаж, — сказала она, — на первом всегда хватает напора воды.
Я спросила ее про внука. Фаля отогнула угол скатерти и достала фотографию, запаянную в целлофан. Она что, всегда держит ее на столе или специально для меня положила, чтоб не искать долго? Я надела очки и повернулась к свету.
На меня смотрел Митя.
— О Господи! — прошептала я. — О Господи!
— То-то! — ответила Фаля со странным удовлетворением. Она взяла у меня фотографию и сказала с иронией: — Родился, и все пошло по новой…
— Что пошло? — тихо спросила я.
— Все, — ответила Фаля. — Такая ядовитая оказалась генетика… — Она посмотрела на меня с легким отвращением. — Ты не знаешь, почему мне выпало любить их без памяти? Не знаешь, за что мне этот крест — любить то, что я ненавижу? А? Никто не знает… Этот, что на небесах, ставит на мне эксперимент?
— Да бросьте, Фаля! — говорю я. — Митя был чудный, его любить — счастье, а если у вас внук в него, так это ж такое везение. Для меня Митя…
Ознакомительная версия.