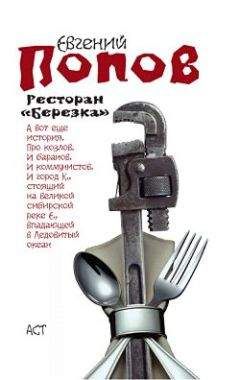– Знаю, знаю.
– Что мне... нам придется подвергаться не одним опасностям, но и лишениям, унижениям. Нас могут посадить в психиатрическую больницу или осудить за так называемую «антисоветскую деятельность».
– Знаю, все знаю... Я тебя люблю.
– Что тебе для дела, возможно, даже придется вступить в КПСС, Коммунистическую партию Советского Союза?
Она положила ему руку на губы.
– Я люблю тебя, мой милый.
– Так здравствуй же, – сказал он ей, – моя жена перед людьми и перед Богом!
Ласково приподнял ее голову, пристально посмотрел ей в глаза и расстегнул верхнюю пуговичку ее блузки.
Час спустя Руся с распущенными мокрыми волосами тихо входила в гостиную. Она едва переступала от усталости, и ей была приятна эта усталость – да и все ей было приятно. Все казалось ей милым и ласковым. Евгений Анатольевич сидел под окном; она подошла к нему, положила ему руку на плечо, потянулась немного и как-то невольно засмеялась.
– Чего? – спросил он, удивившись. – Смешинка нам в ротик попала?
Она не знала, что сказать. Ей хотелось поцеловать мерзкую харю Евгения Анатольевича.
– По лбу!.. – промолвила она наконец. – Плашмя... хлюп!
Но Евгений Анатольевич даже бровью не повел и продолжал разинув рот глядеть на Русю. Она уронила на него несколько капель со своих мокрых волос.
– Милый Евгений Анатольевич, – проговорила она, – я теперь спать хочу, я теперь устала, – и она опять засмеялась, упорхнув, как птичка, в свою комнату.
– Ябеныть... – зачесал Евгений Анатольевич свою лысину. – Во дает. Это надо же, да...
А Руся глядела вокруг себя и думала: «Германия, папаша – черт с ними, а вот мамашу жалко, ведь я скоро должна со всем этим расстаться». Сердце ее радостно, но слабо шевельнулось: истома счастья лежала и на нем. «О, как я стала счастлива! Как незаслуженно! Как скоро!» Ей бы стоило дать себе крошечку воли, и полились бы у нее сладкие, нескончаемые слезы. Она удерживала их только тем, что посмеивалась.
К вечеру она стала задумчивее, потому что вдруг сообразила: не скоро, ой не скоро увидится она с Инсанахоровым. Ведь они договорились так – чтобы никто ничего не понял. Инсанахоров уезжает в Мюнхен, приедет к ним в гости раза два до осени, но, если будет можно, назначит ей свидание где-нибудь около Фелдафинга, пока тепло. Грустно стало Русе.
К чаю она сошла в гостиную и застала там всю компанию за исключением, разумеется, Николая Романовича. Михаил Сидорыч пытливо вглядывался Русе в лицо, пытаясь понять, случилось ли уже то, о чем он догадывался, или случится немного позже. Скоро пришел Владимир Лукич, выглядевший на этот раз чуть болезненнее, чем всегда. Он сказал, что Инсанахоров срочно уехал в Мюнхен, но всем кланяется и всех любит, после чего тоже стал пытливо вглядываться Русе в лицо. Анна Романовна охала и горевала, но Руся решила схитрить и сделала вид, что ей на эту несомненную новость (про Инсанахорова) наплевать. Она притворялась столь искусно, что Владимир Лукич пришел в недоумение – неужели его в этот раз опять подвел его громадный жизненный опыт? В замешательстве он пустился в нелепый спор с Михаилом Сидорычем о текущей политике, в частности о том, как цивилизованный мир должен относиться к тем переменам, которые медленно, но несомненно назревают в СССР и которые обычно связываются с именем Михаила Горбачева. У Руси же все поплыло перед глазами, как будто она покурила марихуаны: и самовар на столе, и грязные кроссовки Евгения Анатольевича, и ростовой портрет военного, и библейский лик Сарры. Жаль ей было всех, всех, всех людей в мире, что они все неправильно живут.
– Ты спатиньки хочешь, мышонок? – спросила ее мать. Она не слышала вопроса матери.
– А я верю! Верю в грядущую перестройку! – вдруг взвизгнул Михаил Сидорыч. – Мы пойдем другим путем, чем ходил ты, мудак!
– Тсс! – Владимир Лукич приложил палец к губам. – Не ори, козел, не видишь, что все уже спят.
Действительно, все уже спали. Храпел прямо в кресле Евгений Анатольевич, раскрыла рот Сарра, посвистывала носом Анна Романовна.
Не говоря уж о Русе, которая спала так, как спит только что выздоровевший психический больной, когда санитар сидит возле его кровати, и глядит на него, и слушает те обрывки бреда, которые еще доносятся порой из его измученного, но уже сознательного рта.
– Спят, как зарезанные, – констатировал Михаил Сидорыч и пригласил Владимира Лукича к себе в комнату, обещая показать ему «что-то интересненькое».
Комната располагалась во флигеле и являла собой самый нелепый беспорядок, какой только можно представить у интеллигентного человека. Везде были разбросаны пустые бутылки, рукописи, рваные газетные листы, фотографии, рубашки, носки, трусы.
– Да ты, я вижу, работаешь не на шутку, – заметил Михаилу Сидорычу Владимир Лукич.
– Стараемся помаленьку, – ответил польщенный Михаил Сидорыч, но тут же посерьезнел, спохватившись: – Я, впрочем, человек сугубо практический, не витаю в эмпиреях, как некоторые. Смотри!
И он потряс перед самым носом Владимира Лукича целой стопкой густо исписанных на пишущей машинке листов.
– Здорово! – не удержался Владимир Лукич от похвалы.
– Да, да. Я не такой, как некоторые подлецы, которые по новейшей эстетике пользуются завидным правом сочинять всякие мерзости, возводя их в перл создания, – скромно ответил Михаил Сидорыч. – Здесь – мой труд об инакомышлении. Простой, как и все гениальное.
– Прости, но я сейчас не смогу его прочитать. Я все Авторханова осилить не могу, у меня очки сломались, – схитрил Владимир Лукич.
– А мой труд и не нужно читать. Это «труд про труд», извини за каламбур, – рассмеялся Михаил Сидорыч, довольный неизвестно чем.
Владимир Лукич пришел в восторг:
– Про труд? Это я люблю. Это еще мой отец любил, и я люблю.
– Да. Мысль у меня простая, и она, конечно же, не понравится многим лодырям и болтунам, с одной стороны, а с другой – людям, порой вполне уважаемым, которые в силу своей ограниченности и догматизма явно отстали от колесницы истории и хер ее когда догонят.
– Не надо материться, уже поздно, – мягко остановил его Владимир Лукич.
– Да я просто волнуюсь. Так вот. Мысль у меня простая: советская система, конечно же, показала полную свою неспособность развиваться дальше, но она существует объективно. Поэтому нужно лишь лучше всем работать, и тогда все будет хорошо. Если прибавим в работе в два раза, будем жить лучше в два раза, если прибавим в работе в три раза, будем жить лучше в три раза, если в четыре – в четыре.
– И это все? – спросил Владимир Лукич.
– Все, – ответил Михаил Сидорыч.
– А как же борьба классов, последствия развития коммунизма в России?
– А мы объявим приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми и последствия развития коммунизма в России будем считать базисом, над которым возведем свою надстройку.
– Ну что же, задумка у тебя хорошая, – искренне сказал Владимир Лукич.– Вижу, что у тебя есть много здравых идей и толковых наработок.
– Но если во мне их нет, – мрачно проговорил Михаил Сидорыч, – то в этом будет виновата... одна известная тебе особа.
– Скорее наоборот, твой выдающийся труд сублимирован неутоленным влечением к упомянутой... особе, – лукаво возразил ему Владимир Лукич. – Да полно, брат, нынче в ее сердце советская диссида царствует...
Приятели расхохотались, крепко пожали друг другу руки и разошлись.
Первым ощущением Руси, когда она проснулась, был радостный испуг. «Неужели? Неужели?» – спрашивала она себя, и сердце ее замирало от счастья. Воспоминания нахлынули на нее... она потонула в них, ее опять осенило это восторженное блаженство.
Однако в течение утра ею вновь овладело беспокойство, перешедшее в следующие дни в состояние тревоги, страха. Она считала, что теперь она уже замужем, но от этого ей не было легче. Ей было тяжело. Она пыталась начать письмо к Инсанахорову, но и это ей не удалось: она внезапно как бы даже разучилась писать по-русски. Дневник свой она хотела сначала порвать, но потом решила сохранить его для потомства. Как ни в чем не бывало пить чай с вареньем, беседуя с маменькой, казалось ей не то преступным, не то фальшивым. Она даже хотела рассказать маме обо всем, но потом, подумав, решила пока этого не делать. «Зачем я здесь, когда мне надо быть там, в Мюнхене, со своим мужем? Что за бред? Ведь я не тургеневская слезливая барышня, я – совершеннолетнее, юридически самостоятельное лицо, имеющее паспорт», – недоумевала она, не в силах решить эту сложную морально-нравственную проблему.
Она вдруг стала дичиться всех, даже полоумного Евгения Анатольевича, который тоже, в свою очередь, чегой-то последнее время совершенно одичал и только чесал лысину да трескал водку. Окружающее стало казаться ей кошмаром, а другие – адом, как у Ж.-П.Сартра. Иногда ей становилось совестно и стыдно своих чувств, но ненадолго. Она стала слышать голоса. «Это твой дом, твоя семья», – твердил ей один голос. «Нет, это не твой дом, не твоя семья», – возражал другой голос.