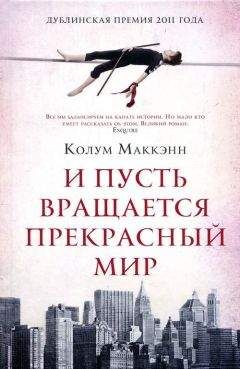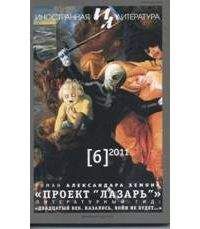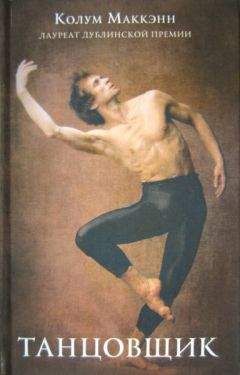— Я думал, ты приглядишь за Шилой.
— Да? Думал?
Я ожидал увидеть тайный торг, кочующий в карман пакетик с героином, передачу денег под стойкой, новый раунд хлопков о ладонь — но не тут-то было.
— Запиши на меня, — сказал Корриган хозяину лавчонки и, выходя, щелкнул пальцем по стеклу аквариума.
Звякнул колокольчик.
— А что, хмурым здесь тоже торгуют? — спросил я, пока мы лавировали между машинами по дороге к скверу.
— Опять ты со своим героином, — сказал он.
— Ты уверен, что я, Корр?
— В чем уверен?
— Это ты мне скажи, братишка. На кого ты похож? Давно в зеркало смотрел?
— Шутишь, что ли? — Отпрянув, он рассмеялся. — Чтобы я? Кололся?
Мы дошли до ограды.
— Я к этой гадости и близко не подойду, — сказал мой брат. Пальцами обхватил проволоку ограды, костяшки побелели. — Со всем уважением к раю, мне и тут неплохо.
Отвернувшись, Корриган оглядел рядок инвалидных кресел в тени вдоль ограды. Чувствовалось в нем нечто свежее, даже юное. В шестнадцать Корриган написал внутри сигаретной пачки, что истинное учение может уместиться внутри сигаретной пачки, до того оно простое: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Тогда, правда, он еще не учитывал всех осложнений.
— У тебя не возникало чувства, будто внутри что-то не на месте? — спросил он. — Понятия не имеешь, что это, — может, мячик или камешек, а может, что-то железное, ватное или трава какая-нибудь, но оно точно внутри. Не огонь, не ярость, совсем не такое. Просто здоровый шар. И не добраться до него никак, а? — Оборвав себя, брат отвернулся, постучал по груди слева. — Вот тут оно. Прямо здесь.
Впервые услыхав что-то важное, мы редко понимаем, что именно прозвучало, но можно не сомневаться: так мы никогда больше этого не услышим. Мы пытаемся вернуться в тот момент, пережить его заново, но, полагаю, по-настоящему найти его не сможем, только смутное воспоминание — легкую тень того, чем он был на самом деле, что означал.
— Ты меня разыгрываешь, да?
— Если бы, — сказал Корриган.
— Брось…
— Не веришь?
— Джаззлин? — ахнул я. — Ты, часом, не влюбился в ту шлюху?
Он расхохотался в голос, но смех вскоре затих. Брат обежал взглядом детскую площадку, пальцы погремели по ячейкам ограды.
— Нет, — ответил он. — Нет, не в Джаззлин. Нет.
* * *
Под пламенеющим небом Корриган провез меня по Южному Бронксу. Закат оттенка сырого мяса — розовый в сероватую полоску. Поджоги. Домовладельцы, сообщил брат, устраивают аферы со страховками. Бросают тлеть целые улицы жилых домов и складов.
На перекрестках — скопления юнцов. Светофоры застряли на красном. Вокруг пожарных гидрантов — огромные лужи стоячей воды. На Уиллис-стрит здание обвалилось прямо на проезжую часть. По груде обломков шныряет пара одичавших собак. Косо торчит перегоревшая неоновая вывеска. Промчалось несколько пожарных машин, а полицейские патрули ездили, сбившись для храбрости попарно. То и дело из теней выныривали фигуры, бездомные толкали тележки из супермаркетов, заваленные медной проволокой. Похожи на первых поселенцев, что гонят свои фургоны на запад по ночным просторам Америки.
— Они кто?
— Шарят в брошенных зданиях, потрошат стены, медную проводку потом продают, — объяснил Корриган. — Десять центов за фунт или около того.
Брат подвел фургон к группе жилых домов — уже брошенных, но еще не тронутых огнем, — дернул рычаг передач вниз, до «стоянки».
Над улицей висела дымка. Не разглядеть даже верхушек фонарей. Дверные проемы крест-накрест заклеены лентами, но сами двери давно выбиты. Корриган устроился на сиденье с ногами, по-турецки. Прикурил и быстро выдул сигарету, а бычок бросил в окно.
— В общем, у меня легкая форма болезни под названием ТТП,[30] что-то вроде, — заговорил он наконец. — Синяки по всему телу. Тут и тут. Хуже всего на ногах. Мелкими пятнами. Около года назад. Признаться, я не придавал значения. Ну, температура поднималась. Голова кружилась пару раз.
А потом, в феврале, я заглянул в приют. Надо было им помочь затащить кое-какую мебель на третий этаж. То, что не влезало в лифт. А жара там адская. Они сильно топят для стариков. Ты себе не представляешь эту жарищу — особенно на лестницах, где трубы. Будто все это Данте строил. Та еще работенка. Короче, снимаю рубашку. На мне одна майка-сеточка. Знаешь, сколько лет я не разгуливал на людях в майке? И вот, когда мы с ребятами уже одолели пол-лестницы, один тычет в меня пальцем, показывает на плечи, на руки — дескать, драка была что надо. А надо сказать, меня и впрямь поколотили. Сутенеры устроили мне тогда веселую жизнь за то, что пускал девушек в уборную. В общем, досталось. На бровь пришлось швы накладывать. Один был в ковбойских сапогах, и мне перепало прилично. Но я и думать забыл обо всем, пока мы не подтянули мебель на третий этаж, а там стоит Аделита, руководит: «Это ставьте туда. Это — сюда». Здоровенный стол мы задвинули в угол кабинета. А ребятам все неймется, мол, я во всей округе единственный белый, который еще лезет в драки. Вроде как атавизм. Ни дать ни взять, Крепыш Джек Дойл.[31] Подначивают меня: «Давай, Корриган, станцуем, мужик, разберемся». Дескать, раз я такой боец, вот бы вставить меня в Ветхий Завет, всем бы там показал. А они не знают, что я в ордене. Никто не знает. Тогда еще не знали, в общем. Подходит ко мне Аделита, давит пальцем на один синяк и с ходу говорит: «У тебя ТТП». Я-то шучу: не ДДТ, случаем? А она серьезно так: «Нет, мне кажется, это ТТП». Выясняется, что по ночам она корпит над учебниками. Хочет заниматься медициной. Работала сиделкой в Гватемале, в крупных больницах. Всегда мечтала стать врачом, поступила в университет и все такое, но тут война, и Аделиту втянуло. Потеряла мужа. Теперь вот здесь. Ее образование никого тут не интересует. У нее двое детей. Уже говорят с американским акцентом. В общем, рассказала мне про низкий уровень тромбоцитов, кровотечение в тканях и что мне обязательно нужно показаться врачу. Вот она меня, брат, удивила-то.
Корриган открутил окно, сыпанул табаку на тонкую полоску бумаги, прикурил.
— Ну я что — я пошел к врачу. И Аделита попала в точку. У меня та самая болезнь, о которой почти ничего не известно. Идиопатическая, видишь ли, никто не знает, чем именно вызвана. Но говорят, все довольно серьезно, можно и загнуться. То есть если не лечить — крышка. В общем, ночью возвращаюсь домой, обращаюсь к Богу в темноте и говорю: «Спасибо тебе, Боженька, одной бедой больше». Но дело в том, брат, что теперь Бог меня слышит. Он на месте. Прямо на виду. Не окажись Его, было бы проще. Тогда можно сделать вид, что я Его ищу. Но нет. Он там, паразит. И очень логично рассказывает, что такое болезнь, как преодолеть ее, как жить с ней, как увидеть мир в ином свете — как видит Он сам, как Он говорит с человеком, что есть Тело и Дух, про таинство одиночества, про то, как злит тебя цель и как использовать эту злость во благо. Открыть себя, услышав обещание. Но, видишь ли, этот логический Бог мне не очень-то нравится. Даже голос — у Него такой голос, который я просто не могу… не знаю, не люблю я такие голоса. Могу понять, почему он такой, но не обязан любить его. Не по мне этот голос. Хотя нет проблем. Сколько раз Он меня бесил. Ссориться с Богом — это полезно. На моем месте побывало много народу, и получше меня, и похуже.
Я прикинул: в моей болезни нет ничего нового, а смерть и того старше. Убивает другое — могучее, пустое эхо всякий раз, когда я пытался вызвать Бога на разговор. Пойми, как ни пробую — сплошь пустота. А я со всей душою, брат. Исповедался честь по чести, знаешь, как веру не растерять и так далее. Говорил тут с отцом Мареком, из церкви Святой Анны. Хороший священник. Мы боролись вместе, плечом к плечу. Часами напролет. И с Богом я, конечно, тоже боролся — в любое время дня и ночи. Хотя раньше, бывало, эти споры потрясали меня до глубины души. В присутствии Бога я обливался слезами. Но Он изводил меня своей холодной логикой. Все равно я понимал, что и это пройдет. Знал, что справлюсь. Тогда я даже не думал об Аделите. Не до нее было. Я Бога терял. Представляешь такую перспективу? Голос разума подсказывал, что Он — лишь часть меня самого… то есть я разговариваю сам с собой. И Его настоящего мне не слышно. Но логикой тут ничего не добьешься. Встречаешь рационального Бога и говоришь Ему: ладно, сейчас мне не до этих рассуждений. Отец Небесный, зайду как-нибудь попозже.
Знаешь, когда совсем юн, Бог подхватывает тебя на руки. И держит. Главная загвоздка в том, чтобы там оставаться и знать, как падать. Те дни, когда держаться уже не в силах. Когда летишь вниз. А штука в том, чтобы потом суметь забраться назад. Этого-то я и хотел. Только никуда не поднимался. Не мог.
Так вот, прихожу я в дом престарелых как-то вечером в пятницу, а Аделита сидит там в каптерке, сортирует пузырьки с микстурой от кашля. Я сел на ступеньку стремянки, давай с ней болтать о том о сем. Она спрашивает, ходил ли я в больницу, лечусь ли, и тут я вдруг начинаю врать: да-да, ну конечно, все в ажуре, не беспокойся обо мне. «Вот и хорошо, — говорит она. — Потому что тебе очень надо следить за здоровьем». Затем придвинула стул и давай растирать мне руку. Говорит, надо кровь разгонять. Давит пальцами вот здесь. И у меня вдруг чувство, что она просто в землю закопалась. Такое ощущение. Мурашки сразу, кровь у нее под пальцами бьется. Я даже за стремянку схватился. И голос внутри твердит: «Не поддавайся, это испытание, будь начеку, будь начеку». Но это тот голос, который мне не нравится. Я заглядываю за его полог — и вижу только эту женщину, катастрофа, я тону, будто плавать не умею. И твержу себе: «Господи, не дай этому случиться. Не допусти». Она постукивала пальцами мне по руке, легонько. Я закрыл глаза. Прошу тебя, не допусти. Пожалуйста. Но это было так приятно. Приятнее не бывает. Мне хотелось не открывать глаза и в то же время распахнуть их. Словами не опишешь, брат. Я не мог больше вынести. Вскочил и выбежал на улицу. Прыгнул в фургон.