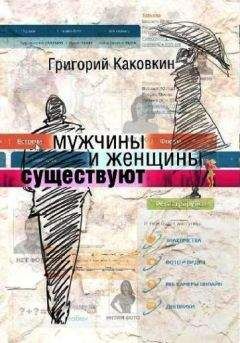Поставила чайник на плиту, приготовила бутерброды и пошла в комнату к детям. Они спали на двухъярусной кровати, распластав свои нерасцветшие тела, было жалко разрушать эту блаженную, неподдающуюся словам красоту. Ночные переживания показались сущим пустяком. Она поцеловала и сына, и дочь, погладила по головкам, сказала, что пора вставать, умываться, чистить зубы и есть. Все и происходило в такой последовательности, только Сережа, придвигая тарелку с омлетом, не удержался и сказал:
— Мам, какая ты сегодня красивая, мам!
А девятилетняя Клара оценила ее как подруга:
— Тебе так и надо краситься, больше. Тебе идет.
С тех пор Тулупова часто просила детей сказать, как она оделась, как выглядит. Но теперь Мила посмотрела на детей и мимолетно вспомнила, как ее все отговаривали оставлять второго ребенка. Она никого не послушала, и вот сейчас они сидят двое, завтракают, пихают друг друга ногами под столом и рассуждают о ее красоте.
— Ну, все — вогнали в краску. Хватит! Я стесняюсь. Время в школу.
Втроем вышли на улицу и знакомой дорогой двинулись через парк. Дети впереди, а она поотстала. На пересечении тропинок стоял Сергей — она его заметила издали. Прошли мимо, он проводил их взглядом, его невозможно было не почувствовать. Дочь спросила:
— Мама, а это кто? Он на тебя так смотрел!
— Не знаю. Наверное, я ему понравилась.
У школьного забора Людмила поцеловала детей, чего обычно не делала. Считала, что, воспитывая их без отца, должна быть последовательной и строгой, но в тот день все вышло иначе. Дети влились с потоком учеников в типовой прямоугольник школы, а она чуть отошла в сторону, остановилась, пытаясь мучительно вспомнить придуманное ночью — что должна сказать ему сейчас. Вспомнила и уверенно пошла по тропинке обратно к дому. Авдеев ждал на том же месте.
— Я должна тебе сказать, что не ищу им отца. Понимаешь?
Авдеев взял ее за руку и притянул к себе.
— Понимаю. Все. Ты молчишь, — сказал он и поцеловал в губы.
— Здесь родительский комитет ходит…
— Иди, — сказал он.
— Куда?
Авдеев повел ее к стадиону с катком, где работал.
— Я мастер по холоду, но вообще-то горячий, — пошутил он, когда они, минуя проходную и вахтершу — старушку с вязаньем, прошли через служебный вход.
— Давай напрямую, — предложил Сергей, открывая бортик хоккейного поля. — Только осторожно.
И они заскользили, не отрывая ног от белого, глянцевого льда. Людмила шла по льду с ощущением, что здесь можно не только упасть, но и провалиться, будто реку переходила по первой некрепкой ледяной корке. Скупой свет дежурных фонарей придавал их скольжению и переходу знаковый смысл — ее переводили на другой, неизвестный ей берег, она боялась, но доверилась этому мужчине и все, дальше запрещено было думать. Затем, пригибаясь и переступая через металлические конструкции, они двигались под трибунами катка и неожиданно свернули в коридор, а там в боковую дверь с табличкой: “Компрессорная”. Сергей закрыл дверь на щеколду, и она поняла — пришли.
Мерный шум работающих насосов, колеблющиеся стрелки датчиков, трубы под потолком — большой технический подвал, а в середине старый письменный стол, несколько таких же стульев и продавленный диван. Людмила поняла, что это будет здесь. Сергей быстро развернул стол, так, чтобы за него можно было сесть с двух сторон, постелил две белые салфетки, достал бутылку советского шампанского, коробку конфет и, разлив по чайным чашкам вино, тихо, и как бы сознательно невыразительно, без пафоса сказал:
— Я хочу тебя. Все!
Дальше Мила ничего не помнила. Ощущение первого и единственного раза — так не было никогда. Ему можно все. Она верила и молчанию, и словам, и пылкой настойчивости. Это было долгое счастье, нестерпимо долгое, она прикрыла ладонью рот, чтобы не кричать, но он с силой оторвал руку от губ и приказал:
— Кричи, не бойся, кричи! Кричи! Кричи!!!
И крикнул сам, выбрав для этого какую-то несуществующую в языке букву, звук.
Она закричала так, как кричат от боли, неохватного простора, красоты, от безлюдья, как кричат в лесу потерявшиеся дети. Не хватало воздуха. Казалось, стрелки манометров в компрессорной теперь дрожат из-за их крика.
После он долго не давал ей одеться. Она даже мерзла, поднимая при тостах нелепые чашки в цветочек. Он говорил о ее теле, красоте, но она не понимала слов. Если бы он это знал, мог бы не стараться — “да” и “нет” сейчас имели одинаковый смысл.
А затем он открыл ящик письменного стола и высыпал оттуда, наверное, сотню солдатиков — одни оловянные, вернее, свинцовые, потертые, советские воины времен Второй мировой, другие деревянные, наполеоновских войн, знаменосцы, кавалеристы, оркестранты. Он расставил фигурки в полки и роты, убрав со стола пустую бутылку из-под шампанского, и рассказывал. Это было какое-то чудо: мужчина, превращающийся в мальчика. Она подошла к нему, прижала к груди и сказала:
— Ты меня любишь, мальчик мой…
— Да, люблю, — не отрываясь от построенных в ряды фигур, ответил Авдеев.
“Дорогой Павлик, я, наверное, тебе зря все это писала раньше. Теперь это, наверное, последнее мое письмо. Последнее. С этим надо кончать. Я все понимаю. Все. Не плачь, Павлик, не плачь. Мне всегда хотелось чего-то чистого, открытого. Я верила в это. Верила, что так и должно быть в жизни. Но я не понимала ничего. Я думала, что это ты и есть, и я должна искать в жизни тебя, Павлик, такого, как ты, чистого и светлого. Мой первый, мой самый первый мальчик, сегодня, мой друг, любовь моя первая, я больше не могу притворяться, потому что не смогу объяснить тебе, что такое взрослая любовь, которая пришла только сейчас. Как сказать, что есть темное и грязное и оно другое, совсем другое, чем то, что было у тебя. У нас с тобой. Мне уже за тридцать лет, у меня двое детей, ты это знаешь, я писала, когда все это было с мужем моим вертолетным, но только теперь я стала женщиной, и как здорово об этом кричать. Я сижу сейчас на кухне, дети спят, после каждого написанного слова я молча думаю о том, что было до и после. Не знаю, как написать. Чувства все же остаются чувствами. Ты понимаешь, Павлик, я так привыкла писать в эту тетрадь. Я тебе там мешаю? Но я привыкла рассуждать с тобой вместе, потому что мы были одной крови. Мать рассказывала, как мы играли с тобой на ковре, и вот теперь я не знаю, как рассказать. Это было в какой-то кочегарке, но это так было. Когда ступила на лед, мы шли туда через искусственный лед. Такая тишина. Холод, как в шахте, я как будто через какую-то реку вброд шла. Не подходит ли здесь слово красиво? Или какие еще есть слова? Помнишь, я написала в этой тетрадке: “Павлик, поздравь меня, сегодня я родила девочку”. И все. И все сказано. Вот и теперь так. Я сейчас вспомнила Червонопартизанск, и он стал другим, я его сейчас вспоминаю первый раз с теплом. Вот всех помню, всех сволочей-гестаповцев, и думаю, что они очень нежные добрые люди — им надо только ходить голыми и не бояться своего тела. Я могу быть счастлива. В этой грязи, в этой кочегарке, здесь, ничего еще не потеряно. Жизнь. Я настоящая женщина. Настоящая. Самая. Настоящая. Я знаю теперь, для чего существуют мужчины и женщины. Вот так, Павлик. Настоящая. Прости.
У него такие солдатики! Он их собирает. Из того, что я тебе тут написала, только это должно быть тебе понятно”.
— Что молчишь, Мил? Тебе хорошо со мной?
— Я привыкаю к твоему имени. В постели почему-то имена звучат по-другому. Мне это так странно — Коля. Николай. Тебя всегда так звали?
— А как еще?
— Ну, как-то… Микола, может, или еще как…
— Я всегда был Николай. В школе звали Почтарь — голубями занимался, у меня была, наверное, самая последняя голубятня в Москве, в Сокольниках.
— Странно. Николай. Я — Мила, — она повернулась к нему лицом. — И мы — тут.
— А где еще? — спросил он, хотя и ему самому это всегда было удивительно: тела всегда так быстро находят друг друга, доверяясь каким-то непонятным, независимым от разума измерениям.
— Сначала ты должен был мне понравиться, мы должны с тобой долго встречаться, и только потом… Я всегда думала, что должно быть так. И, знаешь, никогда неполучалось, — говорила она, продолжая его разглядывать. — А что это у тебя здесь?
— Шрам. Я в прошлом спортсмен, гимнаст, но вот руку сломал. Сильно. И со спортом — конец. Не считая, жены.
— Что, значит, “не считая жены”. Жена — это спорт?
— С ней — да. Только спорт. Ради спорта.
— Не понимаю.
— И не поймешь, этого понять нельзя. Я сам не понимаю.
Эта тема раздражала его, он встал с кровати. Она увидела в проеме окна силуэт плотной мужской фигуры. Николай поставил диск в музыкальном центре. Подсветка из приемника подкрасила комнату синим цветом.
— Я пойду в душ.
— Теперь ты торопишься меня смыть?