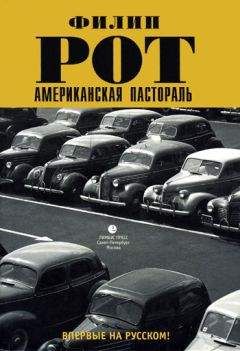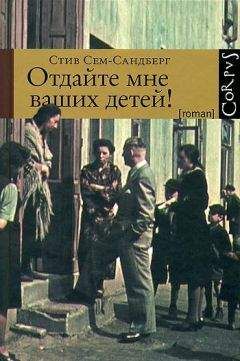Ошибаюсь ли я, полагая, что мы были довольны своей жизнью? Самые распространенные из заблуждений — те, что вызваны ностальгией пожилого возраста. Но так ли я ошибаюсь, считая что дети из обеспеченных флорентийских семей времен Ренессанса вряд ли были счастливее нас, росших в пределах пространства, в каждую точку которого неминуемо долетали запахи солений и маринадов из лавки Табачника? Ошибаюсь ли я, полагая, что даже тогда, в ясном свете текущего дня, жизнь была так насыщенна, что создавала невероятную яркость переживаний? Разве когда-либо потом нам доводилось окунаться в мир, наполненный таким разнообразием подробностей? Подробности, маленькие фрагменты, безбрежное море фрагментов, их значимость, вес. Бесконечное множество фрагментов окутывает тебя в юности так же плотно, как окутают после смерти шесть футов земли, насыпанной на твой гроб.
Вероятно, ближайшая округа уже по самому определению является тем местом, которому ребенок отдает все свое внимание, именно здесь приобщается к подлинным смыслам, и перед ним открывается неприкрытая суть вещей. И все-таки сейчас, пятьдесят лет спустя, я спрашиваю, удавалось ли вам потом войти в жизнь так глубоко, как на этих улицах, где каждый большой и маленький дом, каждый двор, каждый этаж в любом доме — стены, потолки, двери окна в жилище даже наименее близкого тебе приятеля — были настолько бесконечно индивидуальны? Дано ли было нам позже так точно фиксировать все оттенки форм разбросанных вокруг нас предметов или тончайшие градации социального статуса, выявляемые линолеумом и клеенкой, свечами, что зажигают в праздники, и запахами кухни, настольными лампами фирмы Ронсона и жалюзи на окнах? Друг о друге мы знали все: и что у кого лежит в коробке для завтрака, и кто чем полил сосиску, купив ее у Сида; мы наизусть знали физические особенности каждого: кто косолапит и у кого уже растет грудь, кто пахнет бриллиантином и кто, когда разговаривает, брызжет слюной; мы знали, кто среди нас задира, а кто всегда дружелюбен, кто умный, а кто туповат, чья мама говорит с акцентом и чей папа носит усы, у кого мама работает и у кого папа умер; каким-то образом мы даже улавливали, как те или иные семейные обстоятельства приводят к отчетливо видным трудным проблемам.
Ну и кроме того, существовали еще неизбежные сотрясения, порожденные естественными потребностями, темпераментом, фантазиями, тоской и страхом бесчестия. Опираясь только на опыт собственных подростковых наблюдений, каждый из нас, безнадежно половозрелый, одиноко и втайне пытался справиться со всем этим — и все это в эпоху, когда целомудрие все еще было на пьедестале и считалось одной из задач, поставленных перед молодежью, и по значению равной свободе и демократии.
Поразительно, что мелькавшее некогда перед глазами — например, облик своих одноклассников — мы все еще помним во всех подробностях. Поразителен и наплыв чувств, которые мы испытываем сегодня, видя друг друга. Но поразительнее всего то, что нам уже рукой подать до того возраста, в котором были наши дедушки и бабушки, когда мы, новички-старшеклассники, впервые собрались вместе 1 февраля 1946 года. Еще поразительно то, что мы, не знавшие, как же все сложится дальше, теперь в точности знаем, как же оно сложилось. Разве это не поразительно, что результаты, достигнутые выпуском 1950 года, уже окончательно определены, непознаваемое познано, а будущее осуществлено? Наши жизни прожиты. В этой стране, в это время мы прожили их так, как смогли. Поразительно!
Таков спич, не произнесенный мною на встрече выпускников сорокапятилетней давности, спич, обращенный к самому себе под видом обращения к другим. Я начал сочинять его после встречи, лежа ночью в кровати и пытаясь понять, что же меня потрясло. Форма — слишком детализированная и неспешная для бального зала загородного клуба и того времяпрепровождения, на которое были настроены присутствующие, — оказалась вполне приемлемой для раздумий между тремя часами ночи и шестью часами утра, когда я, все еще эмоционально возбужденный, пытался уяснить себе суть тех связей, что побудили нас устремиться на эту встречу-воссоединение, того общего, через что мы прошли в наши школьные годы. Несмотря на различия в частной жизни, большие или меньшие возможности, несмотря на бесчисленное множество разных проблем, создаваемых потрясающими по разнообразию оттенков семейными ссорами — ссорами, к счастью, имевшими куда менее роковые последствия, чем предрекалось в их ходе, — нас все-таки объединяло что-то очень существенное. Причем объединяло не только то, как мы сформировались, но и то, как мы предполагали формироваться дальше. У нас были новые возможности и новые цели, новые обязательства, новые устремления, новая душевная организация — новая легкость и меньшая нервозность при мысли об обособленности, которую по-прежнему хотели сохранять гои. Так на какой же почве проистекала эта трансформация — из чего складывалась историческая пьеса, бессознательно разыгрываемая ее героями и в классах, и на кухнях и внешне ничем не напоминающая великий театр жизни? Что с чем столкнулось, чтобы высечь в нас эту искру?
Прошло уже часов восемь с момента, когда я вернулся домой из Нью-Джерси, где солнечным октябрьским днем в элегантном клубе еврейского пригорода, вдалеке от замусоренных улиц города нашего детства, отданного теперь во власть криминалу и отравленного наркотиками, с одиннадцати утра и вплоть до вечера радостно пенился и кипел праздник воссоединения, а я все еще ворочался без сна, задавая себе эти вопросы и давая на них ответы — зыбкие, порожденные бессонницей тени вопросов и ответов.
Праздник происходил в бальном павильоне, занимавшем угол площадки для гольфа загородного клуба, и был устроен для большой группы пожилых людей, которые в бытность свою уиквэйкскими детьми и подростками тридцатых-сороковых считали, что «гренлик» (как в те дни называли металлические клюшки для гольфа) — это, наверное, гренок с маслом. Последнее, что я помню, — лежа теперь без сна, — это служителя парковки, подгоняющего мою машину под навес крыльца, главную устроительницу праздника Сельму Бреслофф, ее любезный вопрос, хорошо ли я провел время, и мой ответ: «Словно скинул костюм от Иво Дзима и снова влез в домашнюю одежку».
Около трех часов ночи я вылез из постели и с горящей от неупорядоченных мыслей головой сел к письменному столу. Работа продолжалась до шести утра, и в результате передо мной лег вышеприведенный спич. И только когда я пристроил к нему эмоциональное завершение, с кульминацией на слове «поразительно», я наконец смог настолько избавиться от этой «поразительности», чтобы лечь и часа два поспать или хотя бы войти в похожее на сон состояние: от чего-то я, разумеется, освободился, но лента моей биографии все еще крутилась в голове, и я весь до костей был пронизан памятью.
Увы, даже и после такого невинного мероприятия, как встреча бывших однокашников, не так-то легко вернуться к обыденному существованию, защищенному рутиной и монотонным ходом времени. Будь я тридцатилетним или сорокалетним, воспоминания, вероятно, приятно испарились бы из головы за те три часа, что я добирался до дому. Но мне было шестьдесят два, и всего год назад я перенес онкологическую операцию. Поэтому не я на время погрузился в прошлое, а прошлое властно вошло в мою нынешнюю жизнь, и, выпав из времени, я приобщался к его тайной сути.
В те часы, что мы провели все вместе и только и делали, что обнимались, целовались, смеялись, шутили, брали друг друга за пуговицы и вспоминали какие-то сложности и огорчения, которые, если подумать, и яйца выеденного не стоили, восклицали: «Смотрите, кто это!», и «Сколько лет, сколько зим!», и «Ты меня помнишь? Я тебя помню»; спрашивали: «А не с тобой ли однажды?..» или «Ты что, тот самый мальчишка, который?..»; заклинали: «Только не уходи!..» — и эти три остро горчащих слова слышались отовсюду, так как людей отрывали и вовлекали в несколько разговоров сразу… и, конечно же, танцевали, танцевали щека к щеке наши давно уже вышедшие из моды танцы под музыку «человека-оркестра» — бородатого парня в смокинге и с банданой на голове (родившегося как минимум лет через двадцать после того, как под музыку бодрого марша из «Иоланты» мы в последний раз вышли из школьных аудиторий), а теперь исполнявшего, аккомпанируя себе на синтезаторе, вариации на тему Нэта Кинга Коула, Фрэнки Лэйна и Синатры, — в течение этих нескольких часов цепочка времени, как и невесть куда несущаяся лавина, именуемая временем, была так же понятна, как размер и трансформация шарика сгущенных сливок, который мы каждый день растворяем в утреннем кофе. «Человек-оркестр» с банданой на голове наигрывал «Поезд упрямцев», а у меня в голове звенело: «Ангел времени пролетает сейчас над нами, и в каждом его вдохе и в каждом выдохе пульсирует прожитая нами жизнь. Ангел времени здесь, в бальном зале загородного клуба Сидер-Хилла, такая же явь, как и этот парень, наяривающий „Караван мулов“ в стиле Фрэнки Лэйна». Глядя на всех, я то и дело ловил себя на мысли, что сейчас еще 1950 год, а «1995» — своего рода футурологическая фантазия, которую мы представили на своей школьной вечеринке, придя туда в смешных масках из папье-маше, показывающих, какими мы будем к концу двадцатого века. И все эти послеполуденные часы просто мистификация, созданная специально для нас.