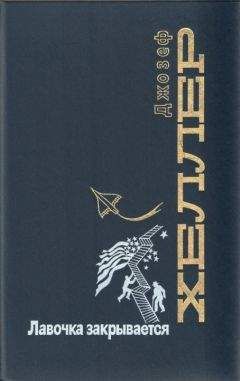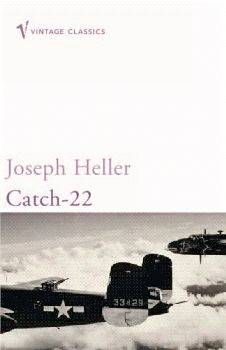— Конечно, торговле недвижимостью.
— Торговле недвижимостью! — издевательским тоном сказал Йоссарян.
— Вы никак не хотите мне верить, — с улыбкой ответил Гэффни, — и тем не менее, вы думаете, что хотите знать истину.
— Истина сделает нас свободными, да?
— Нет, не делает, — ответил Гэффни. — И не сделает. И никогда не делала. — Он указал на Макбрайда. — Идемте, Йо-Йо. У него есть еще одна истина, которую он хочет вам показать. Узнаете эту музыку?
Йоссарян был почти уверен, что снова слышит по громкоговорителям леверкюновы пассажи из опуса, который никогда не был написан; он слышал сочную оркестровую аранжировку, исполняемую рубато, легато, вибрато, тремоло, глиссандо и ритардандо, мелодичную обработку для массового потребления, без всякого предзнаменования ужасной кульминации, без малейшего намека на нее.
— Гэффни, вы не правы насчет Леверкюна. Это из «Апокалипсиса».
— Теперь я это знаю. Я проверил и понял, что ошибался. Не могу вам передать, насколько мне неловко говорить об этом. Но готов поспорить, я знаю, о чем вы собираетесь спросить теперь.
Тем не менее Йоссарян спросил:
— Вы ничего не замечаете?
— Конечно, замечаю, — сказал Гэффни. — Мы здесь не отбрасываем теней, а наши шаги не производят шума. А вы ничего не заметили? — спросил Гэффни, когда они догнали Макбрайда. Он имел в виду не охранника в нише перед лифтом. — А?
Он говорил о Килрое.
Килрой исчез.
Слова на его пластине были стерты.
— Килрой умер, — сообщил Макбрайд. — Я полагал, что должен сообщить вам об этом.
— Я так и думал, — сказал Йоссарян. — Есть много людей моего возраста, которых эта новость расстроит. Вьетнам?
— Нет-нет, — удивленно ответил Макбрайд. — От рака. От рака простаты, кости, легких и мозга. Ему поставили диагноз — естественная смерть.
— Естественная смерть, — скорбно повторил Йоссарян.
— Могло быть и хуже, — сочувственно сказал Гэффни. — Но, по крайней мере, Йоссарян-то жив.
— Конечно, — с дружеской сердечностью сказал Макбрайд. — Йоссарян все еще жив.
— Йоссарян жив? — повторил Йоссарян.
— Конечно, Йоссарян жив, — сказал Макбрайд. — Может быть, нам вместо старой стоит сделать на стене эту новую надпись.
— Конечно, только надолго ли, — ответил Йоссарян, и тут раздался сигнал тревоги.
Макбрайд непроизвольно вздрогнул.
— Это что еще за чертовщина? — Вид у него был испуганный. — Это похоже на воздушную тревогу.
Гэффни закивал головой.
— Мне тоже так кажется.
— Подождите-ка меня здесь! — Макбрайд уже бежал к охраннику. — Сейчас я выясню.
— Гэффни? — с дрожью в голосе спросил Йоссарян.
— Я тут мало что знаю, — мрачно ответил Гэффни. — Может быть, это война. Час триаж.
— Давайте-ка выбираться отсюда поскорее к чертям собачьим. Бежим на улицу.
— Не сходите с ума, Йоссарян. Здесь мы в гораздо большей безопасности.
Услышав сигнал тревоги и увидев, как замигали цветные лампочки на механизме, президент порадовался за себя — наконец-то он сумел хоть что-то привести в действие; он откинулся к спинке кресла и сидел, излучая самодовольство, пока его не осенило — ведь он не знает, как остановить то, что запустил. Он без всякого результата нажимал одну за другой все кнопки подряд. Он уже был готов позвать на помощь, как помощь сама ворвалась к нему в лице Нудлса Кука, толстяка из Государственного департамента, чье имя ему никак не удавалось запомнить, его худенького помощника по прозвищу Тонкий из Национального совета безопасности и генерала из ВВС, недавно повышенного до председателя объединенного комитета начальников штабов.
— Что случилось? — завопил генерал Бингам; на его лице застыло выражение ужаса, к которому примешивалось недоумение.
— Она работает, — сказал президент, ухмыльнувшись. — Видите? Точно как и эта игра.
— Кто нас атакует?
— Когда это началось?
— Нас что, кто-то атакует? — спросил президент.
— Вы запустили все наши ракеты!
— Вы подняли в воздух все наши самолеты!
— Я? Где?
— Повсюду! Вот этой красной кнопкой, которую вы все время нажимаете.
— Этой? Я не знал.
— Не трогайте ее больше!
— Откуда мне было знать? Верните их всех назад. Скажете, что я извиняюсь. Я это не нарочно.
— Мы не можем вернуть ракеты.
— Мы можем вернуть бомбардировщики.
— Мы не можем вернуть бомбардировщики! А что, если они отплатят нам той же монетой? Мы должны сначала стереть их с лица земли.
— Я этого не знал.
— И нам придется еще послать наши бомбардировщики второго удара на тот случай, если они захотят ответить после нашего первого.
— Идемте, сэр. Нам нужно спешить.
— Куда?
— Под землю. В убежища. Триаж — вы что, не помните?
— Конечно, помню. Я в него играл до того, как переключился на эту штуку.
— Черт побери, сэр! Чему это вы улыбаетесь?
— В этом нет ни хера смешного!
— Откуда мне было знать?
— Скорее! Мы принадлежим к той категории, которой нужно выжить.
— А жену я могу взять? И моих детей?
— Ну, тогда и вы останетесь здесь!
Сбившись в кучу, они бросились прочь и забились в ожидающий их цилиндрический спасательный лифт. Толстый, которому поставил подножку С. Портер Лавджой, тоже успевший добежать к лифту в последнюю минуту, ввалился внутрь вместе с вцепившимся ему в спину Лавджоем, похожим на взбесившуюся когтистую обезьяну.
Сняв со своих темных волос разогретые светло-голубые бигуди почти под цвет ее глаз, подкрасив помадой губы и воспользовавшись прочими косметическими средствами, словно собираясь куда-то на вечер — у нее были основания хотеть выглядеть наилучшим образом, — Мелисса Макинтош приняла решение попытаться за ланчем с Джоном Йоссаряном принять то решение, которое считала правильным, и тем самым положить конец их спору о том, что делать дальше — идти ли ей на назначенный прием к акушеру, чтобы сохранить беременность, или к гинекологу и принять меры, чтобы прервать се. Она и понятия не имела о том, что где-то в мире может происходить что-то ужасное.
Она очень быстро догадалась о его нежелании жениться еще раз. Она угостилась еще одной шоколадной конфеткой из фунтовой коробочки, стоявшей так близко под рукой. Эта коробочка была получена ею в качестве подарка от больного бельгийца и его жены в тот день, когда тот покинул больницу, оставшись живым после почти двухлетнего пребывания там. Зная о своей склонности всеми фибрами души прикипать к людям и желая освободиться от всех других забот, чтобы выпутаться из собственного затруднения, она с облегчением встретила известие о том, что бельгийцы улетают к себе в Европу.
Йоссарян мог привести ей весьма основательные возражения против того, чтобы ему обзаводиться еще одним ребенком.
Они не производили на нее никакого впечатления. Аргументировать он умел лучше и быстрее ее, а поэтому, по ее разумению, и хитрее. Себе и своей подружке, Анджеле, она признавалась, что не всегда может ясно мыслить и не каждый раз, заглядывая в будущее, оказывается абсолютно правой.
Однако она ни в коей мере не считала это слабостью.
У нее было кое-что, чего не было у Йоссаряна — уверенность, вера в то, в конечном счете для хороших людей, вроде нее, все должно кончаться хорошо. Теперь, после инсульта у Питера, даже Анджела, устав от порнографии и работы, начав толстеть и волноваться из-за СПИДа, принялась с грустью говорить о возвращении в Австралию, где у нее все еще оставались друзья и семья, а в приюте для престарелых — любимая тетушка, которую она надеялась посещать. Если уж сама Анджела начала думать о презервативах, то значит, и она в скором времени оставит секс и выйдет замуж.
Йоссарян все напирал на свои годы и почти провел ее еще раз — она поздравила себя с тем, что не уступила ему — всего два дня назад.
— Я ничего такого не боюсь, — решительно сообщила она ему, выпрямив спину. — Если что случится, мы сможем прожить и без тебя.
— Нет-нет, — почти со злобой поправил он ее. — Представь, что первой умрешь ты!
Она не пожелала развивать эту тему. Мысль о малютке-дочери, оставшейся в этом мире с одним только отцом, которому перевалило за семьдесят, была клубком слишком запутанным и распутывать его у нее не было никакого желания.
Она знала, что права.
Она не сомневалась, что финансовая помощь Йоссаряна будет вполне достаточной даже в том случае, если она против его воли сделает то, что считает нужным, и они больше не будут жить вместе. В глубине души она знала, что уж в этом-то на него можно положиться. Конечно, теперь он реже, чем на первых этапах их отношений, испытывал приступы безумной страсти. Он больше не дразнил ее предложениями отправиться вместе в магазин за нижним бельем, а в Париж, или Флоренцию, или Мюнхен за подобными покупками он ее так и не свозил. Теперь он посылал ей розы только на день рождения. Но и она стала менее темпераментной, с раскаянием и предчувствием дурного подумала она, и время от времени ей приходилось рассудочно напоминать себе о том, что для чувственных радостей, каковые вначале были для них обычны, ей следует быть более сладострастной в любви. Когда Анджела спросила ее, она призналась, что он, кажется, больше ее не ревнует и не проявляет интереса к ее сексуальному прошлому. Он даже в кино ее больше почти не приглашал. Он уже без всякой злобы и почти без досады сказал ей, что у него никогда не было женщины, которая после продолжительной любовной связи с ним желала бы любовных ласк с такой же частотой, что и он; это, по его словам, относилось и к нынешнему периоду его жизни. Она порылась в своей памяти, пытаясь разобраться, распространялось ли это на других мужчин, с которыми она была в дружеских отношениях. Но что касалось этого вопроса, то и он теперь не усердствовал как прежде, чтобы доставить ей наслаждение, и его мало беспокоило, если он видел, что попытки, предпринятые им в этом направлении, не приносят никакого результата.