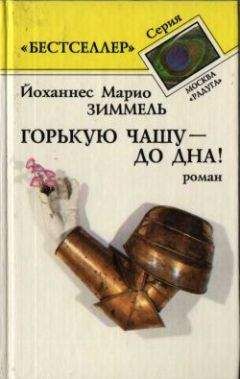В понедельник в павильоне уже царила прохладная атмосфера, которая царит всегда, во всех съемочных павильонах мира, когда съемки близятся к концу. Множество людей, неделями работавших вместе, вдруг стали раздражительными, взвинченными, враждебными и выдохшимися. Хлопали дверьми, то и дело вспыхивали ссоры, актеры и подсобники делали свое дело безрадостно. При этом вторник только для меня одного был последним рабочим днем, всем прочим оставалось еще девять дней съемок, на эти дни приходились Рождество и Новый год. Да, кислое было настроение в нашем павильоне!
В понедельник вечером Шауберг опять «чистил» мою кровь. На этот раз он выкачал из меня пятьсот кубиков, так как от крупных планов я чувствовал себя настолько разбитым и так плохо выглядел, что все меня спрашивали, не заболел ли. Еще один день. Один день крупных планов.
– Завтра с утра пораньше сделаем еще одну «чистку», – сказал Шауберг. Я дал ему последний чек.
– На случай, если со мной что случится.
– С вами ничего не случится.
– Все равно, мне так спокойнее.
Он взял чек, поблагодарил и спросил, не знаю ли я чего-нибудь о своей супруге.
– Я говорил по телефону с одним старым другом. Он установил за ней наблюдение. Приехав, она не выходила из дому.
– Что я вам и говорил.
– Но адвокаты навещали ее.
– Ну, это уж само собой. – Он пожал плечами. – Ясно как день. А вы укроетесь в какой-нибудь клинике.
Я рассказал ему о профессоре Понтевиво.
– Это то, что вам надо. Для вас самое лучшее место.
– Когда вы уезжаете?
– В четверг. У нас первоклассные фальшивые паспорта и документы! – Он вдруг смутился.
– В чем дело?
– Просто кажусь себе каким-то обывателем. Кэте просила меня узнать, не хотите ли вы быть нашим гостем.
– Когда?
– В среду. У мадам Мизере. В нашем распоряжении гостиная. Кэте хочется устроить ужин в вашу честь. Мы будем втроем, больше никого. Кэте хочется попрощаться с вами по всем правилам и поблагодарить…
– Чушь.
– …мне тоже. Почем знать, что со всеми нами будет, верно? А мы ведь так прекрасно ладили друг с другом. Так придете?
– С удовольствием, – ответил я.
Когда Шауберг ушел, позвонила Наташа и сказала, что получила телеграмму из Рима.
– Профессор ждет вас двадцать пятого декабря, то есть в пятницу.
– Благодарю вас, Наташа.
– Не хотите пойти со мной погулять немного позже?
– Я очень устал.
– Хотите, я к вам приду?
– Нет. Мне хочется побыть одному.
– Могу я чем-либо вам помочь, Питер?
– Нет, – ответил я. – Вы ничем не можете мне помочь. У меня в номере было две бутылки виски, много льда и содовой, что оказалось весьма кстати, потому что в эту ночь мне приснилась сначала Шерли – она пришла ко мне в бунгало, как когда-то, и между нами все было так, как когда-то; а потом мне приснился тот сон с лифтом, после которого я проснулся весь в поту, и все это – виски, лед и содовая – понадобилось мне в большом количестве.
Последняя моя сцена (№ 214) снималась 22 декабря, во второй половине дня. Секретарь съемок записала: «16.30–16.55. Сцена 214. 7 дублей. 1, 2, 4, 5, 6 брак, 3 и 7 в копировку. М-р Джордан отснялся».
Мистер Джордан отснялся.
Так было написано в дневнике съемок, а больше вообще нигде и ничего. Не успел я уйти со съемочной площадки, как на ней уже появились Генри Уоллес и два немецких актера, занятых в следующей сцене, и Торнтон Ситон принялся объяснять, что им предстоит делать. Рабочие убирали с площадки стену комнаты. Осветители свистом подавали сигналы своим коллегам наверху, на мостиках. Четверо рабочих перекладывали рельсы и перетаскивали камеру Митчелла. Альбрехт спорил с реквизитором из-за 278 марок, которые тот потратил на живые цветы, хотя, по мнению Альбрехта, вполне сошли бы искусственные со склада.
– Ваза с цветами не попадает в фокус, приятель! Ни одна собака не заметила бы!
Думается, никто вообще не заметил, что я ушел из павильона. Я направился в уборную, снял грим и переоделся. Старине Генри дал на прощанье денег, как принято. И он пожелал мне всего хорошего, как принято, и сообщил, что уже в январе ему предложили поработать костюмером у Ричарда Уидмарка. Он тоже захотел сниматься в Гамбурге.
– Но никогда не доведется мне обслуживать такого милого человека, как вы, мистер Джордан! Я говорю это от чистого сердца.
Может быть, и так. А может, он говорил это всякий раз при прощании с очередным шефом. Старый костюмер поработал со многими звездами за свою долгую жизнь. Что же – среди них не было милых людей? Я не стал ни с кем прощаться, потому что собирался на следующий день еще раз приехать на студию и тогда уже дать денег тем, кто меня обслуживал, подписать последнюю ведомость в бухгалтерии и распрощаться. Но всего этого так и не произошло. В среду вечером я был приглашен к Кэте и Вальтеру Шауберг. А на рождественский вечер я был зван к Косташу вместе с Торнтоном Ситоном, Белиндой Кинг и Генри Уоллесом. Явиться к Шаубергам и к Косташу мне было не суждено. Только я этого еще не знал во вторник вечером…
Я сел в машину и поехал по очищенным от снега улицам (ветра не было, потеплело, снег уже не шел) к кладбищу в Ольсдорфе, ворота которого еще были открыты. Привратник выглянул из сторожки.
– Мы закрываем через полчаса.
Я кивнул и пошел мимо белого крематория к могиле Шерли.
Смеркалось. Навстречу мне попалось чуть больше десятка людей. Холмик был весь в снегу, из него торчал только черный деревянный крест с нашим венком и белая лента с надписью:
ШЕРЛИ БРОМФИЛД
род. 17.11.1939 в Лос-Анджелесе
ум. 10.12.1959 в Гамбурге
Господи, упокой ее душу с миром
Я прочел надпись и сказал вслух, так как был один:
– В самом деле, упокой ее душу с миром, Господи, если Ты существуешь. Она была так добра. И так молода. И никогда не была счастлива.
И я начал разговаривать с Шерли, молча. Рассказал ей, что фильм мой завершен, и что через три дня я полечу в Рим, где буду отдыхать в санатории, и что я, вероятно, никогда больше не приду сюда, к этой могиле, к этому месту на земле, где она сама станет землею.
Вскоре я прервал свой рассказ, так как подумал, что она ведь не может меня услышать и либо уже знает все о моем будущем, либо ничего ни о чем не знает. Следовательно, в обоих случаях было бессмысленно говорить с ней. Поэтому я ушел от заснеженной могилы и направился к выходу с кладбища, где слышался звон колокола маленькой церковки.
По широкой главной аллее несколько человек, навещавших могилы, двигались, подобно мне, к выходу. Среди них была пара пожилых людей: она плакала, он ее утешал, и я подумал, насколько в мире больше стариков, чем молодых, особенно в Германии. Потом вспомнил о черной сумке, лежащей у меня в машине, и пошел быстрее, причем обогнал человека в синем зимнем пальто со свертком под мышкой.
– Добрый вечер, – сказал этот человек в тот момент, когда я его обогнал.
Я остановился и взглянул в его желтое лицо с нездоровой кожей, впалыми щеками и черными глазами, исполненными тысячелетней печали. Я сразу его узнал, этого человека: я видел его в пивной на Кёнигсрайе, этого бывшего адвоката, пригласившего меня утром выпить с ним шнапса и пива, когда я зашел в пивную, чтобы после ареста Шауберга прочесть письмо, оставленное им для меня.
«Не хотите выпить со мной, что ли?»
«Да нет, я бы с радостью. Но в такую рань…»
Тогда он задрал рукав.
На запястье был наколот номер и буква А.
А 2456954. Это был он.
– Что вы здесь делаете? – спросил я.
– Я часто сюда прихожу. Почти каждый день.
– Здесь есть могилы ваших родственников?
– Нет. Но тут так много мертвых. Лежат в своих могилах раздельно, по конфессиям. Есть и еврейский участок. Видите ли, я ведь родом из Гамбурга. И если бы жена и маленькая Моника не погибли в Освенциме, а умерли своей смертью, они были бы тоже похоронены здесь.
– Но ведь их здесь нет!
– Нет, – кивнул он. – Они неизвестно где. Пепел всегда выбрасывали в реки. Так что они, наверное, лежат теперь на дне моря…
– Но тогда что же вы здесь делаете?
– Там, в глубине кладбища, есть участок, где хоронят самоубийц и утонувших в Эльбе. На многих надгробиях нет имени. Я выбрал два надгробия – одно для жены, другое для Моники. И всегда их навещаю. Вам небось кажется, что я полоумный, да?
Я промолчал.
– А я и есть полоумный.
– Что вы такое говорите!
– Так все говорят.
– Сами они полоумные. А вы нет.
Мы с ним вышли из ворот кладбища и стояли уже у моей машины.
– Я подвезу вас в город.
– Спасибо, не надо. Я пройду пешком до остановки и сяду в автобус.
– Не хотите ли выпить?
Глаза его загорелись.
– Виски? У вас есть виски?
– Виски, лед и содовая.
– Здесь?
– Здесь, в машине. Хотите?
Он смущенно пробормотал:
– Если вас не затруднит.
Я отпер дверцу, и он сел рядом со мной, а я открыл черную сумку.