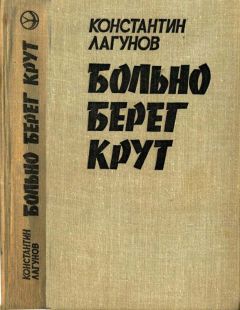Заструились тревожные мысли. Сперва ровненько, гладенько, потом все скорей, заметались резкими, болезненными толчками, сталкиваясь, перехлестывая, перешибая друг друга. И вот уже стронулось притихшее было сердце, застукотило гулко и дробно, и тотчас стала наливаться тяжестью голова.
Сколько времени караулил он желанный миг? Показалось — целую вечность. Он не имел понятия о времени. Знал только, что за окном ночь, а какой стороной стояла она к его окнам — светлой или черной — не ведал, не гадал даже, ибо все силы поглотило напряженное ожидание. Из-под приспущенных век он видел, как, устраиваясь поудобней, возилась в кресле медсестра, то подбирала под себя, то вытягивала ноги, кутала колени цветным шарфом и, наконец, свернувшись клубком, затихла и заснула.
С величайшими предосторожностями, не дыша, он выпростал из-под одеяла левую ногу, медленно опустил ее на пол, передохнул и стал проделывать то же с правой ногой. Затем, опираясь руками о кровать, приподнялся, сел и едва не упал от головокружения. Сверкающие жалящие искры прошивали голову. Закрыв глаза, он видел клубок трассирующих огненных точек. Кровать вдруг утратила незыблемость, стала раскачиваться, крениться, того гляди кувыркнется. Пришлось лечь, отдышаться, выровнять бег сердца, унять, погасить фейерверк в голове.
Девушка спала, улыбаясь во сне. Милая, прекрасная девушка, как сладко и безмятежно она спала. Мысленно приласкав и поблагодарив ее, пожелав приятных сновидений, Фомин снова стал подниматься. На сей раз обошлось, и он несколько минут сидел на кровати, осмысленно и трезво озираясь. Нашарил руками спинку, оперся, встал. И опять что-то как бы стронулось в голове, тяжко и болезненно, резко качнув Фомина, но он устоял. Расставив пошире ноги, не выпуская кроватной спинки, долго стоял, не шевелясь, привыкая к вертикальному положению. Пронесло. В голове остался легкий шум, зато сердца не слышно. Раскинув балансиром руки, медленно и неслышно он заскользил по холодному, гладкому, словно глянцевому полу. У двери еще раз приостановился, оглядел спящую девушку и тихонько потянул на себя дверную ручку. Дверь растворилась бесшумно и, пропустив его в проем, так же бесшумно закрылась.
В пустом, пропахшем лекарствами коридоре — полумрак и зыбкая хилая тишина. У столика дежурной медсестры — никого. Призывно поблескивали два телефонных аппарата — белый и красный. Фомин потянулся было к крайнему, да, спохватясь, отдернул руку: произнеси громко слово — и все пропало. Двери врачебных кабинетов оказались запертыми. Только дверь ординаторской чуть приоткрыта. Фомин заглянул в комнату, слабо освещенную настольной лампой. На диване — примятая подушка, серый ком пледа: кто-то спал. «Не иначе Клара Викториновна». Вошел, притворил плотно дверь и сразу за телефонную трубку:
— Междугородняя? Добрый вечер. Говорит буровой мастер из Турмагана Фомин. Девушка. Вызовите Турмаган, пожалуйста. Диспетчера УБР…
— По счету или по талону?
— Завтра будет и счет и талон, а пока вызовите…
— Завтра и вызовем.
Он позвонил старшей телефонистке. Волнуясь, торопясь, долго и путано объяснял, кто он, откуда и почему звонит в полночь из больницы.
— Ничем не могу помочь, — сочувственно выговорила старшая, но трубку не положила.
— Да поймите же вы, — плачущим голосом взмолился Фомин. — Там эксперимент. Может быть авария, катастрофа…
— Попробуйте связаться через «Нефтяник». Телефон диспетчера в главке: шесть четырнадцать сорок три…
О, какой же он осел. Надо было сразу узнать этот номер и попросить диспетчера. «Нефтяник» — прямая связь главка со всеми управлениями, конторами и промыслами области. Связь неприкосновенная, безотказная и скорая. Обрадованный Фомин набрал номер и, услышав недовольное: «Слушаю», сразу представился. Голос на том конце провода пообмяк, подобрел, участливо поинтересовался, что случилось, почему Фомин в Туровске.
— Приболел малость, — как можно беспечней и веселей ответил Фомин. — Подзастрял тут. А в бригаде новое долото начали испытывать. Сам понимаешь. Будь другом, соедини с диспетчером УБР, а потом с квартирой…
— Сейчас.
И вот трубка наполнилась шорохами, посвистами, щелчками, и сразу уловил Фомин неоглядную черную пустоту меж собой и далеким Турмаганом, и оба они показались затерянными, маленькими и жалкими. Зябко поеживаясь, Фомин зачем-то подул в трубку, постучал по рычажку. И вдруг отчетливо, совсем рядом:
— УБР один слушает. Диспетчер Сафиулин.
— Сафиулин?! — завопил Фомин, позабыв о том, где находится. — Привет! Это Фомин…
— Ефим Вавилыч?
— Он самый, — кричал Фомин. — Слушай. Как там в бригаде на новых долотах?
— Порядок! За три дня закончили на девяносто седьмом и семидесятом. Молодцы ребята! Догоняют Шорина. Что передать? Как здоровье?
— Порядок. Слышишь? Порядок! Скажи, чтоб…
Тут опять из темноты, из-за спины, поднялся неведомый с занесенной чугунной кувалдой и со всего маху ахнул Фомина по затылку, и полетели черепки, посыпались мелкие осколки в могильную черноту. В густой мертвой тишине сигналом бедствия надорванно кричала телефонная трубка:
— Вавилыч!.. Вавилыч!.. Где ты?.. Вавилыч!..
4
Он шагал по сверкающему пластиком полу серединой широкого, белого больничного коридора. Сопровождавшая его медсестра никак не могла подстроиться в ногу и все время отставала. Она была пожилой, наверное, под стать больному годами, но очень полной и флегматичной. Не сердилась на Фомина, хотя, выходя из палаты, предупредила, чтобы не торопился, не волновался, поберегся. «Ох, мужики, — думала она, семеня следом, — вечно с норовом, своебышные и гордые — ку-у-да…»
Двадцать дней и двадцать ночей дежурила у его изголовья Смерть. Двадцать дней и столько же ночей, сменяя друг друга, несли непрерывную вахту жена и дочь умирающего. Эти четыреста восемьдесят часов, спрессованные беспамятством в черную глыбу, не оставили в памяти Фомина никаких следов, будто и не было их вовсе, будто и не прошел он по лезвию, балансируя между тем миром и этим. Крепка оказалась мужицкая закваска, сильна рабочая закалка. Отступила Смерть. Но недалеко ушла и еще целый месяц напоминала о себе. Побелел за это время Фомин, и волосами и лицом. Темными впадинами провалились глазницы, остро проступили скулы, а под ними пугающие вмятины известковых щек. И на губах бледная синева…
Едва оттолкнув костлявую, едва пойдя на поправку, Фомин сразу затосковал по буровой, по Турмагану. Жена и дочь уехали, по телефону разговаривать не позволяли, газет не давали, радио в палате не было. Изредка его навещали приехавшие в командировку турмаганцы или знакомые из нефтяного главка. Фомин набрасывался на них с расспросами, интересуясь буквально всем, чем жил Турмаган. И вот наконец долгожданный день выписки.
У дверей той самой ординаторской, где его оглушила и повалила Смерть, Фомин чуть приостановился, подождал приотставшую медсестру, пропустил ее вперед и шагнул следом.
В комнате, тогда сумеречно-таинственной, буйствовало такое яркое весеннее солнце, что, ослепленный им, Фомин на миг зажмурился и лишь потом разглядел врачей, вольготно рассевшихся на диване и на стульях. Как видно, его появление прервало всеобщий, очень интересный разговор, а может, и спор. Фомин угадал это по лицам и позам, почему-то решив, что заводилой спора была Клара Викториновна. За месяц выздоровления она дважды навещала Фомина, появлялась всегда неожиданно и стремительно, и вместе с ней в палату врывался свежий ветер и долго еще потом не улетал оттуда, волнуя и бодря мастера. Негромкой, задорной скороговоркой Клара Викториновна выпалила: «Ну вот. Сейчас сами убедитесь», и тем лишь утвердила догадку Фомина, что именно она запалила в ординаторской спор, который в самом разгаре оборвался его появлением. Последняя фраза Клары Викториновны подсказала Фомину, что спорили о нем. «Что тут?» — взглядом спросил он Клару Викториновну. «Нормально. Будь молодцом», — и улыбнулась, и кивнула ободряюще, и от той короткой, чуточку озорной, приветливой улыбки, от бодрящего кивка Фомину стало легче и вольней дышать, спало нервное напряжение, и, помимо воли, он улыбнулся ответно: «Не волнуйся. Все будет как надо».
Глыбой нависший над столом, широкоплечий, широкогрудый, грузный мужчина (Фомин знал — его звали Николаем Федоровичем и был он главным терапевтом области), еле смиряя свой могучий голос, пророкотал:
— Садись, Ефим Вавилович. В ногах, сам знаешь…
Подождал, пока уселся Фомин, и, еще больше смирив свой протодьяконовский бас, обратился к врачам:
— Историю болезни Фомина все знают. Не раз встречались у его постели. Сегодня после обеда его выпишут. Мы должны сейчас высказать свои рекомендации по поводу дальнейшего лечения, режима труда и жизни… Кхм! Кхм!.. Давайте, товарищи. Коротко и по существу.