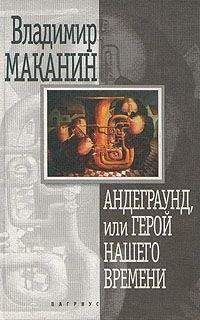Остановился другой водитель. Остановился третий. Я всем повторял просьбу — до метро, только до метро, но, как-то особенно нажимая на слово «больница». (В глубине души, хитрован, думал, что прямо туда и повезет по доброте — мол, зачем же, скажет, только до метро?) Собрав остатки английских слов, я попытал счастья и на мировом языке. Привлечь, что ли, хотел. А водитель жигулевой «девятки» — на прекрасном английском (и так стремительно) — ответил, что принципиально не любит он ездить в больницы, подальше, подальше от врачей. И посоветовал мне: «Speak Russian. Speak Russian, dear... Тебе же проще. Зачем, дедуля, ломаешь себе язык?» — Я показал ему, вот зачем: седой Веня, и что же поделать, если брата в машину никто не берет. Венедикт Петрович к этой решающей минуте сидел на земле.
Водитель, несколько колеблясь: — Хорошо поешь, дед. Но я думаю, твой брат пьян, а?
— Это так просто понять: от него же не пахнет!
— Хочешь, чтобы я его обнюхал? — Он закрыл окно и газанул с утробным ревом. (Даже не оглянулся, как я отскочу в сторону, когда машина рванет.)
Я сменил тактику. Машин шло много, но мои запросы стали скромнее: я махал рукой грузовым. Грузовым, всем подряд, да вот же и они летели мимо.
Битый, грязный фургон все же остановился.
— Мужики. До метро! — крикнул я с мольбой.
Их было двое. Они втащили, посадили Веню. Но уже на полпути спросили с меня деньги. Венедикт Петрович не понимал слов, тихо радовался: едем, уже едем! (Младший брат обычно любит ездить больше, чем старший. Даже если оба уже поседели.) Когда выяснилось, что платить нечем, те двое спокойно и трезво — не споря — просто-напросто вытолкнули Веню, он тотчас вывалился, упал, а уж я сам скоренько за ним выскочил, поднять его (он заваливался как раз под колеса машин, торопливо объезжающих наш грузовик с обеих сторон). «Сволочи! Суки!» — кричал я, оттаскивая брата на обочину.
Мы с Веней оказались чуть ли не в худшем, чем прежде, положении: нас выбросили в полном безлюдье (зачем свидетели; эти двое из грузовика дело знали). Вплоть до метро тянулось вовсе пустынное место, даже без тропы. Я был уже готов (созрел) просить помощи у пеших. Но тропа, что обычна вдоль дороги, шла теперь круто на высоте бугров — далековато отсюда: я видел цепочку идущих там людей.
Протащив брата две сотни шагов в сторону метро, я вынужден был отказаться: тяжко. Да и Венедикт Петрович, больно ему, жаловался, постанывал: хочешь не хочешь, я его то нес, то волок, не церемонясь. Теперь он лег, лежал на земле, что дальше?
Уговорами, нажимом и (особенно важно) напоминаниями из детства мне удалось вовлечь его в давнюю игру: «Смотри, Веня. Мы в детстве. Мы с тобой скакали, как кони...» — я напомнил, показав ему, как именно следует скакать (переступать) на четвереньках. Я проскакал вперед, потом назад, потом Веня пробовал сделать, что и я. Получилось. Ура! Плечо к плечу, мы передвигались на четвереньках рядом, не слишком, впрочем, торопясь, двигаемся — и ладно. Уже темнело. Машины, параллельно нам, проносились по дороге с зажженными фарами.
Мы одолели подъем, потом спуск. Я ведь еще и сумку его волок. Осенняя трава, мелкие катышки пыли — эта темнеющая вечерняя земля была удивительна. Давно я не видел ее в такой близи: какая земля!.. Ныла поясница. Но я все шустрил возле брата, как бы задавая тон. Таракан, но более подвижный и живой, я резво забегал вперед, говорил, давай, давай, догоняй! — приостанавливался и ждал. А впереди (цель) горел и тоже ждал (нас обоих) фонарь: тускловатый, но высокий (и достойный восхищения, когда ты на коленках). От фонаря к фонарю.
Нас обогнала группка торопящихся людей, веселые, один из них говорил: «Нет, нет. Мне вон тот нравится — смотри, какой моторный!» — про меня, разумеется. Они прошли мимо, сочтя нас пьяными, проспавшими полдня и только-только пробудившимися в траве. Они торопились. Один из них, впрочем, сострил (этот их тонкий нижегородский юморок): он на ходу склонился к более шустрому таракану, ко мне, и дружески сказал, как бы на бегах, как бы своему фавориту: «Неужели придешь вторым?..» — и похлопал по плечу, поощряя. Юморок адресовался им, группке, — услышали и хохотнули. Ушли.
А мы передвигались и совсем не спешили, преодолевая зыбкую полутьму (меж двумя фонарями). Травинки нет-нет и били по лицу. У следующего фонаря отдохнули; там же я распрямил спину и, горделиво стоя на коленях, помочился. Без напоминания, по извечной человеческой синхронности, Венедикт Петрович тоже поднялся на колени и, хотя не обильно, но покропил осеннюю траву. В сторону, по ветру, все правильно.
Там, в движении, коленками на земле и в тишине (возможно, благодаря тишине), я вдруг услышал Слово, и это Слово было я сам. Мне лишь показалось, почудилось. После десятилетнего молчания (мне показалось) я услышал знакомый гул. Воздух и земля — все качнулось. Я увидел, как мой брат подымается с колен. Пошатнулся раз, другой. Встал.
— Я сам, — это сказал Венедикт Петрович. И шагнул.
Мы были уже на подходах к метро. Вошел в метро он тоже сам. А когда на крутых ступеньках эскалатора я брата придерживал, Венедикт Петрович вытирал (вполне правильно) с лица пот платком и говорил (вполне разумно), что ему жарко. Мне тоже было жарко. Но день завершился, день удался! И ехать, к счастью, было уже без пересадок.
Оба изнемогли, устали, и оба молчком, скорей бы, мол, корпуса больницы, — да вот и они! Теперь все проще: теперь Венедикт Петрович может сесть и сидеть, хоть бы и прямо на траве. Сидеть, лежать, кричать, ползти, да и провожающему эти дела трын-трава, потому что здесь Веня все может. А хоть бы и выйти на проезжую часть перед больницей и прилюдно пописать, еще и потрясти возбудившимся органом, как пачкой денег, — пожалуйста, автобус объедет, а идущий обойдет, и даже взъярившаяся уличная толпа против Венедикта Петровича бессильна, потому что уже на территории. Потому что уже их ответственность, что он ни делай. (Он их — именно этого они и хотели, сами хотели и добивались, когда тридцать лет назад его залечивали: забрать себе его «я».) Пописать, обнажиться, а может, и поджечь склад-сарайчик, неподалеку домик, или даже большой дом, смотря по интересу. Даже и всю больницу поджечь, и опять же виноваты будут они, виновато общество, весь мир, но не он, потому что его нет, его «я» не существует, нет моего брата. Стоит Венедикт Петрович и чуть покачивается. У входа. Ждем, когда примут. «Открывай!» — кричу.
Я все-таки проведу его внутрь. Это важно после домашнего кайфа. Видел не раз, как подгоняют санитары отдохнувшего, давай, давай, смеются, а давай наперегонки, мил-ляга? — тычками, один толкнет вялого слева, другой с правой стороны. Так и протолкали мячиком по коридору до палаты, а потом, ах, синяк, и тут синяк?! ах-ах, да что ж ты падаешь, дохляк какой. А пожрать, между прочим, он не дохляк, не зазевается, лишнюю сосиску у соседа взять — это понимает, а лишний шаг сделать по коридору — этого его шарики уже не крутят!
Что?! а почему так поздно его привезли?! а вы не вмешивайтесь, у вас вон свой — вы думаете, он не берет со стола чужие сосиски? не берет, зато он у вас срет мимо, — нет? ну, если еще не срет мимо, так срал же и, стал быть, будет... Да ты не каркай, чего ты с родственниками треплешься,— это сказал второй санитар, более скучный и сам полупришибленный. Ага! Вот и накаркал — смотри! Прихватив справа-слева, вели Венедикта Петровича, и вот из его штанины, из левой плюх и еще плюх, и следы на полу... Ну, ты подумай, что за день сегодня! да не кричи ты при родственниках! да не его это родственник, начхать на него!.. как теперь быть с ним, с этим? Как? — а вот как! — потащим его мыть, обмыть положено, давай, давай, не в говне же его оставлять. А вот насчет пола пусть нянька, или родня! пусть родня раком, и чтоб тряпками хорошенько возили воду по полу — и чтоб честно, от стены до стены.
Оглянулся. Венедикт Петрович оглянулся, чтобы увидеть меня с расстояния. (Понимал, что я тоже вижу его.) Оттолкнул их. И тихо санитарам, им обоим как бы напоследок: не толкайтесь, я сам. И даже распрямился, гордый, на один этот миг — российский гений, забит, унижен, затолкан, в говне, а вот ведь не толкайте, дойду, я сам!