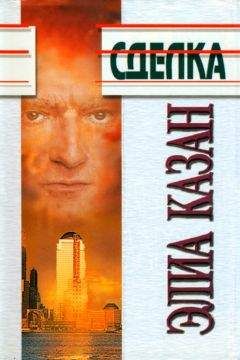— Ваш отец чувствовал бы себя по-другому, если бы верил. Но он избрал для поклонения нечто иное… Впрочем, вам лучше знать!
— Скажите, что он избрал?
— Самого себя.
— А я думал, что вы скажете «деньги».
— Нет. Самого себя. А он сам — еще не все. Ни один человек не велик настолько, чтобы придать собственной жизни смысл. Человеку нужен Бог!
— Не верю.
— А можно задать вам вопрос? — сказал он. — Вы так открыто высказывали презрение ко мне…
— Разве?
— Конечно. Всякий раз, когда мы встречались. Но я свыкся, мы все свыклись — ну, может, некоторые и обижаются, — но мы знаем, что, несмотря на это, нам надо жить и работать в мире. Потому что Христос жил и работал. А сейчас я все-таки хотел бы спросить вас.
— Спрашивайте.
— А вам самому достаточно одного себя? Вы сами — достаточная причина для того, чтобы жить? Являетесь ли вы и ваши заботы основанием для ведения этой ужасной борьбы? Ваши амбиции, вожделения и ваши аппетиты — могут они оправдать боль, цену и все остальное?
— А почему вы так говорите со мной?
— Потому что знаю вас, — ответил отец Дрэдди.
— Но вы же не знаете!
— Ваше лицо говорит само за себя. Я видел много лиц, и таких, как ваше, — большинство.
— И что же на нем написано?
— Вы желаете узнать?
— Было бы неплохо…
— Во-первых, грызущие вас сомнения… Хватит?
— Продолжайте.
— Я прошу прощения…
— Продолжайте.
— Презрение к самому себе.
— Дальше.
— Вы ни в чем до конца не уверены.
— Это правда!
— Где-то я восхищаюсь храбростью подобных вам людей!
— Не понял, что значит «подобных»?
— Это значит, людей, живущих только человеческими ценностями. Скажите, что дает вам силу существовать день за днем?
— Отвечу начистоту. Не знаю.
— И вы можете жить в таком сомнении?
— Я живу этим сомнением!
— Тогда еще вопрос. Разве неудивительно, что вы не уважаете себя?
— Но я уважаю, — сказал я и сам себе изумился. И не знал, что уважаю. — Я уважаю себя.
— Пожалуйста, ответьте мне. Ведь чтобы уважать себя, необходимо хотя бы знать, за что? За что вы уважаете себя?
— Трудно объяснить…
— Вот видите. Фыркать на меня легко, глядеть на меня свысока и того легче, а ответить на такой вопрос, мой друг… Есть у вас ответ?
— Есть, — сказал я и снова изумился.
— Скажите. Я весь внимание.
— Скажу. Я уважаю себя потому, что я сомневаюсь. Потому что получать ответы от других, не отвечая самому, — легко. Потому что надо обладать недюжинной силой и смелостью, чтобы взглянуть назад, на себя в прошлом, и сказать НЕТ самому себе, взглянуть на мир и сказать НЕТ этому миру!
Я впервые зауважал себя после этой фразы. Я начал защищать самого себя. Знал бы кто!
— Кроме того, — продолжал я, — сказав НЕТ, начав все менять, пробовать начать все сначала не потому, что КТО-ТО БОЛЬШОЙ дал мне вторую попытку, а дав ее самому себе.
Отец Дрэдди не открывал рта.
— А лицо… сомнения и прочее… Думаю, в этом и есть человеческая надежда, человеческое достоинство.
В кровати шевельнулся отец.
Мы подошли к нему.
Ему снился прекрасный сон. Губы его двигались, он пытался что-то сказать. Я не смог разобрать артикуляцию, но лицо его прояснилось.
— Кажется, он думает о чем-то светлом, — сказал я отцу Дрэдди.
— Перед смертью это случается часто. В их видении все оживает, начинаются фантазии…
Отец открыл глаза.
Они горели. Казалось, их освещает огонь изнутри. Он улыбнулся. Очень нежно. Такой улыбки я у него никогда не видел.
Отец Дрэдди склонил голову, подставив свое ухо к самым губам отца. Я затаил дыхание. Когда губы отца шевельнулись, Дрэдди услышал последнее слово.
— Что он сказал? — спросил я.
— Что значит «деду»? — спросил он.
Я промолчал. Что можно ответить? Как объяснить?
— Он повторил слова дважды! — сказал отец Дрэдди. — «Деду» по-гречески священник?
— Патриарх. Но это не то, что вы думаете.
— Он хочет священника-грека. Своей церкви, — сказал отец Дрэдди. Казалось, это его вдохновило.
— Это не то, что вы думаете…
— Но, допустим…
— Сомневаюсь.
— Но, допустим, допустим…
Отца Дрэдди словно подменили. Он был окрылен.
— Я еду в Норфолк к отцу Анастасису, — сказал он. — Извините.
И убежал.
Я очень удивился его возбуждению и почему-то зауважал его.
Мой отец умер утром около шести часов.
Взглянув на его уже застывшее лицо, я увидел, каким оно могло быть, — гримаса вечной озабоченности исчезла.
Лицо отца накрыли простыней. Я поехал к Майклу.
Из мира ушла напряженность. Со смертью старика все стало проще.
Мама спала как ребенок, волосы разметались по подушке, лицо — спокойное и умиротворенное. Казалось, будто известие о смерти мужа тоже каким-то образом достигло ее, и для нее, как и для всех, внезапно все стало проще.
Разбудить маму мне пришлось толчками в плечо.
Проснувшись, она сразу все поняла. Мама села в кровати и вздохнула:
— Ох, Серафим, Серафим!
Я вышел из спальни. Вскоре она пришла в гостиную. Глаза ее были сухими. Я поцеловал ее и, поддерживая за локоть, отвел в такси.
В госпитале, нигде не останавливаясь, она прошла прямо в палату к отцу.
Занавесь, окаймлявшая постель, была опущена.
В комнате уже стояла вторая кровать, и на ней лежал мужчина. Он был такого же возраста, как и отец, суетливый и раздраженный. Лежать с трупом в одной комнате ему совершенно не нравилось.
Мама подошла к телу человека, бывшего ее мужем в течение сорока семи лет, и поцеловала его в лоб. Затем поцеловала еще раз. Она молча посидела у изголовья, как сидела, когда он был жив. Подобающей молитвы она не знала.
Спустя полчаса пришли санитары и вынесли тело. Никто не спросил, ни куда его уносят, ни что с ним собираются делать.
Пришло время позаботиться о похоронах и найти место для могилы.
Покидая больницу, мы встретили мальчуганов Глории. Они опоздали на прощание с дедом, но пришли слишком рано для похорон. Мальчишки щебетали между собой что-то свое, детское, и были похожи на обезьянок. Майкл сказал, что случилось. Они перекрестились и застыли, не зная, что делать дальше. Мы уехали, а они так и остались стоять с испуганными физиономиями.
Позже мне стало известно, что отец Дрэдди все-таки отыскал отца Анастасиса и вытащил его из постели. Предыдущей ночью тот играл, как всегда, в бинго и поздно лег спать, но поднялся, оделся и запрыгнул в машину Дрэдди очень быстро. Правда, мой отец уже не нуждался в его молитвах.
Мы направились в дом Майкла. Там обнаружили, что проголодались. Глория сварила кофе, а мама поджарила яичницу с ветчиной. Мы с Майклом остались наедине.
— Подумай о себе, — сказал он.
— Ты, никак, волнуешься, Майкл?
— Конечно, ты же — псих. А я — твой брат.
— Так ты волнуешься обо мне?
— Конечно. У тебя такой же взгляд.
— Какой?
— Обращенный внутрь себя. Помнишь, ты пришел с войны как пришибленный. Сейчас — то же самое. Ты еще и говорить прекратил.
— Мне нечего сказать, Майкл.
— Но одну вещь тебе все-таки придется сказать. Одну вещь одному человеку. Это мне нужно. Пожалуйста. Ты, наверно, не знаешь, но всякий раз, когда у мамы неприятности, с ней рядом не ты и не я, а — Глория. Это она идет к ней и помогает, а не я и не ты.
— Я виноват перед Глорией.
— А как она узнает об этом? Иди и скажи ей.
— Хорошо, — сказал я.
Я пошел на кухню, Глория была одна. Я извинился, она лишь кивнула. Позднее раскаяние, подумал я.
После завтрака состоялось семейное совещание. По мнению Глории, лучшим вариантом являлся похоронный дом Тантона. Она знала миссис Тантон по клубу. Других предложений, ни лучших, ни худших, ни у кого не оказалось.
В похоронном доме мы выбрали гроб. Сам мистер Тантон ожидал нас. Он порекомендовал бетонное надгробие с нишей, куда наглухо замуровывают гроб; никакой протечки воды, пообещал он, стопроцентная гарантия. Видя наши колебания, он добавил, что если мы опустим гроб в сырую землю, то через пару лет могильный холм провалится или осыплется и могила будет плохо выглядеть.
Но надгробие стоило баснословно дорого. Я не имел понятия, откуда взять деньги на свою долю.
И мы решили не покупать надгробие с нишей.
Пока Майкл и Глория обсуждали детали, мы с мамой поехали осматривать кладбище.
Вскоре мне стало ясно, что, помимо могилы для отца, она искала место и для себя.
Католическое кладбище едва умещалось в своих границах. Но нам сказали, что одно место можно найти.
Я вспомнил где-то услышанную историю про пражских евреев. Их кладбище было так тесно, что людей хоронили одного над другим, в столбцы по шесть, семь человек. Во время войны все гетто присоединилось к лежащим на этом пятачке земли.