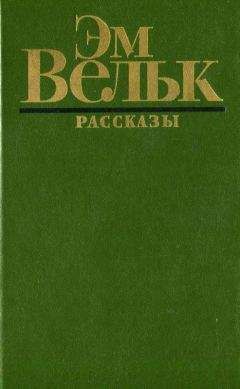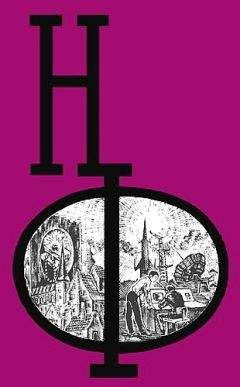Он подошел поближе и, когда я перестал мычать себе под нос, извинился. Подумать только — моряк, и просит извинить его! По его словам, ему бросилось в глаза, что днем, на людях, я молчалив и серьезен и только оставшись один, среди ночи, вполголоса читаю стихи. Кстати, как оно звучит точно? «Ну погоди же», — подумал я и прочитал это стихотворение вслух. «Да, да, — радостно воскликнул он, — это Мёрике, но мотив другой».
И тут сам он запел мое стихотворение, только гораздо красивее. То есть, текст он знал не совсем точно.
— У вас прекрасная литература и прекрасная музыка, мы, датчане, любим и ту, и другую. Год назад я слышал исполнение этой песни на большом концерте в Копенгагене. Текст показался мне чересчур романтичным, поэтому я и позабыл многое, но вот музыка… Гуго Вольф у нас очень сейчас популярен. — Вот что сказал мне датчанин, а я, немец, и не подозревал, что Гуго Вольф положил эти стихи на музыку и что их исполняют в публичных концертах, даже за границей.
Я уже успел прийти к убеждению, что моряк из меня никудышный, а тут рядом стоял человек еще более нелепый в роли моряка. И потому мы не таясь рассказали друг другу, как попали на этот корабль, а потом и подружились. Звали его Йенс Мадсен, был он датчанин, и, помимо всего сказанного, он и еще в одном отношении был самый странный из когда-либо виденных мной моряков: в своем на редкость тяжелом и огромном мешке он таскал целую кучу книг. По большей части то были политические книги, которые он, как социал-демократ и агитатор, раздавал для прочтения. Узнав о моем приключении в Гельсингфорсе и почувствовав, что я, разочаровавшись в одном скверном и злом человеке, готов из-за этого пересмотреть все свои взгляды на необходимость классовой борьбы, он, по возможности щадя меня, вскрыл наивно-сентиментальную подоплеку моего выхода в море, объяснив, что Хайни Грязнуля — такой же продукт существующей системы, как и советник коммерции Рибель и владелец корабля-смертника. Йенс Мадсен был родом из Гудхьема с острова Борнхольм, местечка, кишевшего, по его словам, христианскими сектами. Они пишут свои призывы, продолжал Йенс, крупными буквами на стенах домов и на заборах и пребывают в убеждении, что мирское зло можно одолеть, проявляя терпение в жизни и нетерпение в усилиях по обращению инакомыслящих. Сын лавочника, Йенс должен был посещать гимназию в Рённе, чтобы стать проповедником. А хотел он стать моряком. Наконец им удалось достичь компромисса: Йенс стал миссионером. Тут он нашел что искал, хотя и на религиозной основе: незнакомые страны, незнакомые люди и море. Но увидев, что делают добрые христиане, если они сильны и богаты, со своими ближними, если те не сильны и не богаты, он пошел единственно приемлемым для него путем: стал глашатаем нового евангелия. Он поспешно вернулся в Европу, видя отныне свою миссию в том, чтобы наниматься на самые никудышные суда, где почти не бывает организованных моряков, и заниматься там просвещением и агитацией в пользу социал-демократии. Он стал миссионером, который по доброй воле, побуждаемый одной лишь верой в возможность добиться для бедных лучшей, более свободной жизни на этой земле, не боялся ни тяжелой работы, ни опасностей и даже отказался от счастья иметь собственную семью.
Я с готовностью внимал словам своего нового ментора, но когда он сказал, что капитан даже и не подумает отдать меня в руки властей из-за дурацкой истории в Гельсингфорсском порту, я отнюдь не поторопился покинуть судно, а, напротив, сделал еще один рейс, поскольку Йенс покамест не завершил свои дела на пресловутом «Кнуте».
Мы и потом поддерживали связь друг с другом, покуда первая мировая война не разорвала ее. Он не вернулся из рейса к берегам Англии, но для меня он просто переселился в страну Орплид, куда вступил в ту ночь на борту «Кнута», когда стихотворение Мёрике, словно огромная птица, пролетело над морем.
Медленно и тяжело, подобно большому, неуклюжему, плашмя лежащему мельничному колесу, двигалась по кругу вереница арестантов в колодце тюремного двора. Осью этого круговращения служила засохшая липа, точнее — толстый надзиратель, привалившийся к дереву, почти лишенному листьев. «Разговаривать строго запрещается! Соблюдать дистанцию! Марш!» — скомандовал он как всегда, а потом, как всегда, впал в какое-то забытье. И тогда, как всякий день, та часть живого колеса, которая находилась позади него, с помощью жестов и шепотом стала обмениваться новостями:
— Остерегайтесь врача! Он из СС! (Врач держался очень приветливо и расспрашивал о семейных обстоятельствах.)
— Отто сейчас в Колумбиа-хауз! (Младший полицейский Отто был мастером мучить и избивать, а Колумбиа-хауз прославился в Берлине пытками и убийствами.)
— Зеленому больше папирос не давать! Он стукач! (Зеленый был тюремным уборщиком, а папиросы — маленькими скрученными записками с новостями, которые он передавал дальше.)
Внимание, сегодня некоторых выпускают! (Кое-кого из нас действительно выпустили.)
Передо мной, согнувшись, с бессильно повисшими руками и опущенной головой шел рыжеволосый депутат рейхстага Хайльман. Ни один его жест, ни одно движение не обнаруживали, что он понял услышанное, и дальше известий ом тоже не передавал. Может, он уже так отупел, что ему ни до чего больше нет дела? Были и такие, кого эти сообщения не трогали, но в общем игра увлекала всех. Как мельничное колесо погружается в воду, так погружался в молчание круг заключенных, вступая в поле зрения надзирателя. И как вода каплет и брызжет с лопастей колеса, так каплями и брызгами срывались слова. Играли все, только депутат рейхстага безучастно тащился по кругу. То ли он боялся, что его заметят, то ли его уже успели обработать…
Наша часть колеса снова взлетела наверх и оказалась за спиной надзирателя.
— Эй, Хайльман! — шепнул я.
Ничто в нем не дрогнуло в ответ. И колесо человеческих судеб вертелось дальше, пять минут, десять, пятнадцать, и еще много новостей каплями срывалось с него.
У двери, ведущей на лестницу, показался надзиратель и что-то крикнул. «Стой!» — эхом отозвался толстый у дерева. Большое колесо стало, качнувшись, — ведь останавливаться было для нас непривычно. Человек, появившийся в дверях, подошел ближе и выкрикнул несколько фамилий. Среди них была и моя.
— Пошли!
Один из нас, не совладав с собой, спросил:
— Куда, господин вахмистр?
Вопросы задавать запрещалось, но тот все же ответил, и при всей грубости ответ прозвучал добродушно.
— Придержи язык! Можешь радоваться, вас выпускают!
Выпускают? Но ведь меня еще ни разу не допрашивали. Я взглянул на остающихся, и их чувства на мгновение затопили меня. То были удивление, радость за нас и вполне понятная зависть.
— Вам что, не нравится? По мне, так можете оставаться здесь! — крикнул из дверей надзиратель. Он даже сказал мне «вы»! Прежде чем обернуться к нему, я успел заметить, как рыжий Хайльман тоже поднял голову и посмотрел мне вслед. Это был очень грустный взгляд.
— Живей, живей! — подгонял надзиратель; он отпер дверь в мою камеру и оставил ее приоткрытой. Все еще не понимая, что произошло, я стал запихивать в картонку свои пожитки. Когда я взял в руки кожаные домашние туфли, я увидел, что в камеру кто-то вошел. Это был уборщик.
— Подари мне шлепанцы, — попросил он, — ты теперь сможешь купить себе новые.
Я отдал, но тут же спохватился: ведь это Зеленый, стукач!
Давай обратно! — крикнул я.
Зеленый повертел пальцем у виска и исчез. В дверях, раскрытых теперь настежь, стоял вахмистр.
А ну, побыстрее! Вы что думаете, я из-за вас буду работать сверхурочно?
У картонки не было веревки, и мне пришлось взять ее под мышку.
В канцелярии уже дожидались восемь человек. Среди них были и те двое, из моего давешнего арестантского круга. Стало быть, всех выпускают.
Здесь же находились двое полицейских, один из них — толстый с тюремного двора. Время от времени он подходил к окошечку и поторапливал писарей. Это было хорошо, ибо каждая минута, на которую сокращалось наше пребывание здесь, дарила нам жизнь. Сначала я пойду и побреюсь, потом возьму извозчика — нет, лучше сперва позвоню домой, а то если я неожиданно появлюсь на пороге, как бы радостное потрясение не натворило беды.
Только почему эти типы не отпускают тех, у кого бумаги уже готовы? Впрочем, теперь уж не беда, если к неделям и месяцам, проведенным здесь, прибавится еще полчаса. Наверное, это продлится дольше, чем полчаса, ведь они еще должны вернуть нам ценные вещи, деньги и часы.
— Все здесь? — спросил вахмистр в окошечко и стал перебирать бумаги из большого желтого конверта.
Из окошка ответили:
— Ты что, боишься, что мы спрячем одного из твоих воробышков?
Час тому назад меня бы не задело, что о нас говорят в таком тоне. Но теперь нас освобождали, и каждый мог требовать, чтобы с ним обходились как с гражданином, как с полноправной личностью. Ну да ладно — лишь бы выбраться отсюда. Нельзя давать этим палачам новый повод придраться к себе.