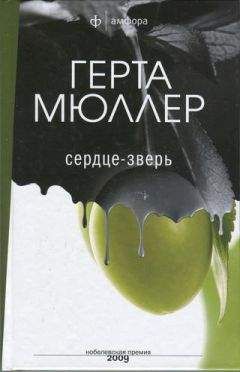Отец сидит на краю кровати, ребенок рядом на полу. Ребенок слушает, как стучит маятник часов на стене, и в такт часам поглаживает кисточки. Мама уже спит. Ребенок поглаживает кисточки и приговаривает: тик-так, тик-так. Отец сверху вдруг наступает правой туфлей на левую. И на ручку ребенка. Очень больно. Ребенок замирает, дух захватило от боли, но он молчит.
Отец убирает свою ногу. Он отдавил ребенку ручку, ручка расплющена. Отец говорит: «Не сметь меня беспокоить, не то… — И взяв отдавленную ручку между своих ладоней, договаривает: — Да ничего».
В народе говорят, если в день смерти повалит снег, значит, умер хороший человек. Это неправда.
Снег повалил, когда после смерти отца я с чемоданчиком шла в город. Белые хлопья мотались по воздуху туда-сюда, как настриженное тряпье. На камнях мостовой, на чугунных завитушках оград, на садовых воротах и на крышках почтовых ящиков снег не оставался. Он сверкал белизной только на волосах мужчин и женщин.
Ему бы о смерти своей подумать, а он затеял какую-то нелепую историю с парикмахером. С первым попавшимся парикмахером, на первом попавшемся углу затеял какую-то нелепую историю, думала я. Вот и со смертью он затеял нелепую историю. Парикмахеру ничего о смерти не сказал. Отец хоть и чуял уже свою смерть, но твердо верил, что еще поживет. Какой же глупой я была — тогда, под падавшими с неба лоскутьями, блиставшими чистотой только на волосах мужчин и женщин, — если и сама в тот момент ввязалась в совершенно нелепую историю. Я — накануне похорон отца, с этим его чемоданчиком — пошла к своему парикмахеру и что-то там рассказывала ему о смерти.
Я сидела и сидела у парикмахера, я тянула время как могла, я рассказала парикмахеру все, что знала о жизни отца.
В этом рассказе о смерти жизнь отца началась в те времена, о которых я много чего узнала из книг Эдгара, Курта и Георга и совсем немного от самого отца. Вернувшийся с войны солдат-эсэсовец, он разводил по всей земле кладбища и быстро покидал те города и села, сказала я парикмахеру. Человек, пожелавший завести ребенка и трепетно оберегавший свои домашние шлепанцы. Я рассказала о его придурочных кусточках, о черных-пречерных сливах, о пьяных песнях в честь фюрера, о великой печени — все это я рассказывала и в то же время делала завивку по случаю его похорон.
Когда я наконец собралась уходить, парикмахер сказал: «Мой отец был под Сталинградом».
Я села в поезд и поехала хоронить отца и слушать про мамины боли в пояснице. Поля были пегими, все в коричнево-белых пятнах.
Я стояла у гроба. В комнату вошла бабушка-певунья, со стеганым одеялом. Обойдя вокруг гроба, она постелила одеяло поверх покойницкого покрывала. Нос у бабушки-певуньи был такой же, как у отца, — точно клюв. Отец своего не упустит, подумала я, вот и теперь бабушка окружает его заботой. Губы у бабушки-певуньи — хриплая одинокая дудка, она дудит себе и дудит без всякого смысла.
Уже несколько лет, как бабушка-певунья никого в доме не узнавала. Но теперь она узнала отца. Что ж, она была не в своем уме, а он — не на этом свете. Зверек его сердца перебрался в сердце бабушки-певуньи.
Она сказала маме: «Оставь одеяло на гробе — уже летит к нам снежный гусь». Мама одной рукой схватилась за поясницу, унимая боль, другой сдернула одеяло с гроба и расправила покойницкое покрывало.
Эдгар, Курт и Георг после обысков в общежитии стали носить с собой зубную щетку и маленькое полотенце. Они не сомневались, что будут арестованы.
Решив проверить, шарит ли кто в их чемоданах, каждый из них положил на крышку чемодана два волоса. Утром положил — вечером волос там не было.
Курт сказал:
— Каждый вечер, как лягу спать, так кажется, будто под спиной у меня чьи-то холодные руки. Поворачиваюсь на бок, сжимаюсь в комок. Эдакая гнусность, что нельзя человеку обходиться без сна. Засыпаю я мигом, точно камнем иду ко дну.
— Мне приснилось, будто я решил пойти в кино, — рассказал Эдгар. — Чисто побрился, потому что внизу, в витрине у входа, вывесили указ: покидать студенческое общежитие разрешается только чисто выбритым студентам. Иду на трамвайную остановку. В трамвае, гляжу, на всех сиденьях лежат листки, на листках — дни недели. Читаю: понедельник, вторник, среда и так далее, до воскресенья. Говорю кондуктору: «Сегодня день, которого тут нет». Он отвечает: «Значит, всем придется стоять». Люди и стояли на задней площадке, в тесноте. У каждого на руках ребенок. И дети запели, хором. Пели стройно, хотя и не могли друг друга видеть в толпе взрослых.
В коробчонках Эдгара, Курта и Георга и дома у их родителей обыски были еще три раза. После каждого обыска матери присылали письма со своими хворями. Отец Эдгара больше не приезжал в город, письмо от матери Эдгар получил по почте. На полях отец Эдгара приписал: «Ты замучишь мать до смерти».
В моей коробчонке тоже был обыск. Когда я пришла, девушки приводили комнату в порядок. Моя постель, матрас, сажа для ресниц валялись на полу. Мой чемодан, раскрытый, стоял у окна, на откинутой крышке — чулки-патент. На чулках лежало письмо от мамы.
Кто-то завопил: «Это ты Лолу в могилу свела!» Я вскрыла конверт; поддав ногой, захлопнула крышку чемодана и сказала: «Ты принимаешь меня за физрука». Кто-то чуть слышно возразил: «А вот и нет. Лола-то на твоем поясе повесилась». Я подхватила с пола свою сажу для ресниц и запустила ею через всю комнату. Она ударилась в стеклянную банку с еловыми ветвями. Концы ветвей, ища поддержки, цеплялись за стену над столом.
В письме, после маминых болей в пояснице, я прочитала:
«Приезжали трое, важные, на машине. Двое перевернули всё в доме вверх дном, жуткий кавардак устроили. Третий был просто шофер. Он повел разговоры с бабушкой, чтобы она не мешала тем двоим. Шофер говорит по-немецки, да еще и на швабском нашем наречии. Родом он из соседнего села, да не сказал из какого. Бабушка приняла его за твоего отца. Ну и хотела причесать. Он забрал у ней гребешок, и тут она запела. А он удивился, как, мол, хорошо она поет. Одну песню они вместе спели, вот эту:
Детки, домой пора вам давно!
Матушка свечку задует — станет темно…
Он сказал, мол, у бабушки напев совсем не тот, какой он знал. А сам-то пел почти то же самое, просто он мелодию переврал.
Как они уехали, дед места себе не находит. Пропала у него светлая королева. Где он только не искал — обыскался. Нет королевы, и всё тут. Очень ему без нее плохо. В шахматы без королевы не поиграешь. Уж как он свои фигуры берёг! И в войну они уцелели, и в плену дед их не растерял. А теперь вот прямо в доме самая главная, королева, пропала.
Дедушка сказал, чтобы я тебе написала, дескать, люди плетут о тебе всякое и за это получают деньги. Нельзя — слышишь ты? — так сильно огорчать дедушку».
Падал снег. Нам на лица падал снег, а на асфальте это был уже не снег, а вода. Ноги у нас зябли. Вечер развесил блестки улицы на макушках деревьев. За голыми ветвями огни фонарей силились соединиться в дрожащее целое.
У человека с черной бабочкой на шее появился двойник — отражение в мокром асфальте возле фонтана. Человек смотрел в верхний конец улицы. На высохшем букете снег не таял, как и на его волосах. Час был поздний, автобусы с заключенными давно проехали в тюрьму.
Ветер бросал снег нам в лицо, даже когда мы поворачивали и шли по ветру. Нам хотелось в тепло. Но в бодеге стоял дикий галдеж. Мы пошли в кино, попали на последний сеанс. Фильм уже начался.
На экране гудел заводской цех. Эдгар, когда глаза привыкли к темноте, сосчитал тени в зрительном зале. Кроме нас, еще девять. Мы сели в последний ряд. Курт сказал:
— Здесь можно разговаривать.
В цехах на экране было темновато, и мы друг друга не видели. Эдгар засмеялся:
— Мы же знаем, как выглядим, когда светло.
Георг заметил:
— Некоторые этого не знают.
Он вытащил из кармана зубную щетку и сунул в рот. На экране по цеху побежали пролетарии с железными палками. Они открыли плавильную печь. Оттуда потекло железо, и в зале стало посветлей. Мы поглядели друг на друга и засмеялись. Курт сказал:
— Да убери ты свою щетку!
Георг сунул щетку в карман.
— Ах ты, швабский занудный шептун, — сказал он.
Курт рассказал свой сон:
— Я пришел к нашему парикмахеру. А там сидят женщины и вяжут на спицах. Спрашиваю, что им тут надо. Парикмахер говорит: «Они ждут своих мужей». И руку мне протягивает: «Первый раз вижу!» Я подумал, это он о женщинах, но он на меня смотрел. Я и говорю: «Меня-то вы знаете». Женщины захихикали. Я говорю: «Студент я». А парикмахер: «Вот уж никогда бы не подумал. Я знаю одного такого, вроде вас. Но вас я знать не знаю».
Зрители в зале засвистели и завопили:
— Трахни ее, Лупу, да трахни же, давай, давай, Лупуле!
Рабочий целовал работницу, темным вечером, на ветру, у заводских ворот. Внезапно там, у заводских ворот, наступил светлый день, а работница, которая целовалась с рабочим, теперь была с ребенком.