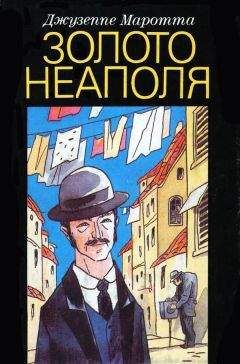Я тоже умею готовить хлеб с солью и оливковым маслом; в 1926-м в Милане я пробовал это дважды, и оба раза получилось очень хорошо. Не нужно обращать внимание на свинцовый цвет, в который окрашиваются, пропитываясь водой и разбухая, куски хлеба; нужно аккуратно полить их маслом и посыпать солью, а в худшем случае просто вообразить, что вы это сделали: в конце концов вы все равно сядете и все съедите. В нашем доме, когда на обед или ужин подавали хлеб с солью и оливковым маслом, было принято не застилать стол скатертью: нам казалось, что для стола это траур даже больший, чем для нашего аппетита, и мы уважали его горе. Мать, правда, говорила: «Ах, если б это видел ваш отец», но и только; обычно она легко плакала, но слезы могли бы испортить суп, а какой смысл был есть его пополам со слезами?
Мой отец был важным господином, хлеб с солью и оливковым маслом достался матери от бабушки, он дошел до нас бог знает из каких бурбонских, из каких плебейских далей.[13] Ребенком я слышал, что мой прадед, Антонио Фиорентино, который и в восемьдесят лет продолжал хвататься за нож, умер на тротуаре около Порта Сан Дженнаро, грызя сладкий рожок: рожок тут же подобрал невесть откуда взявшийся оборванец и вонзил в него зубы за здоровье деда. Мою бабушку звали Тереза. Сейчас я коротко расскажу вам о ее жизни, от начала и до конца заполненной битьем поклонов в церкви и хлебом с солью и оливковым маслом; если ее образа еще нет в алтаре, то только потому, что о ее добродетелях знаем лишь мы; но когда-нибудь я расскажу о них в анонимном письме епископу, и посмотрим, посмеют ли они не причислить ее к лику святых! Осиротев в пятнадцать лет и не получив в наследство даже сладкого рожка, который стал последним ужином дона Антонио, бабушка посвятила себя святым и работе. Она шила солдатские мундиры, одевая наши войска для всех войн от эритрейской до ливийской, но те часы, когда колесо швейной машинки останавливалось, потому что уже не было света или потому, что его еще не было, она неизменно проводила в церкви. И если не попадет на небеса человек, выстаивавший от начала и до конца все богослужения — и великопостные, и страстные, и майские в честь Девы Марии, и двухдневные в честь Священного Писания — и способный твердить одну и ту же молитву по три дня кряду, то, значит, на небеса вообще нельзя попасть!
Спрятавшись, как сверчок, среди свечей и статуй, моя бабушка в течение пятидесяти лет оглушала господа бога своими неутомимыми «Tantum ergo»,[14] она молилась и просила прощения за то, что не знает смысла латинских слов, которые произносит, и молилась она, разумеется, с куда большим рвением и куда более твердой верой, нежели те, кто говорит богу в точности то и только то, что говорит.
Однако и это, и колючее сукно солдатских мундиров, и отполированные ее коленями ступени перед всеми алтарями не помешали ей в свое время быть красивой и внушать любовь. Дон Фердинандо Аволио был тоже беден и жил шарманкой, на которой восседала обезьянка по имени Асмара, чьей единственной пищей были, по-видимому, собственные ее блохи. Бабушка и слышать о нем не хотела, покуда он не пригрозил, что покончит с собой; но я-то живу на свете только потому, что спустя несколько дней после свадьбы дон Фердинандо обратился с последней своей жалобой к исповеднику невесты, который, как умел, вмешался в происходящее и все уладил. Однако брак оказался несчастливым, дон Фердинандо вскоре куда-то исчез вместе со своей четвероногой подругой, и никто о них никогда больше не слышал. Бабушка поведала о случившемся Мадонне Семи Скорбей, выкормила дочь хлебом с солью и оливковым маслом, выдала ее замуж, потом получила обратно вдовой, была счастлива, когда брала меня на руки и учила именам святых, и целовала меня в лоб, когда на вопрос: «Как жила Дева Мария до семнадцати лет?» — я безошибочно отвечал: «Голодала».
От ее шали и бесчисленных юбок исходил запах, который я помню до сих пор — слабый, простой, здоровый, как у хлеба с оливковым маслом: так пахнут несправедливость, с которой пришлось примириться, долги, которые пришлось простить, отвергнутые искушения — в общем, то был запах, который говорил: «Да будет воля всех!»
Никто не мог сравниться с моей бабушкой в искусстве приготовления хлеба с солью и оливковым маслом: только что мы заглядывали в буфет и ничего там не нашли, но стоило пошарить там ей, как откуда-то тут же появлялось несколько огрызков хлеба; пустую бутылку она выжимала до тех пор, покуда та не давала хотя бы одну каплю масла толщиной с волосок; затем надо было, чтобы вода пропитала каждый кусок, но при этом не лишила его плотности — речь, собственно, шла о своего рода воскрешении, обновлении хлеба; и, наконец, оставалось только распределить несколько капель масла так, чтобы ни одно не пролилось на блюдце и все они остались внутри хлеба и таким образом пошли на смазку петель нашего молодого голода: эти петли так легко ржавели и начинали скрипеть!
А кто лучше моей бабушки умел отказываться от своей доли еды? Мы слишком поздно узнали, что она еще помогала чужим людям, каким-то беднякам; смешно даже подумать, какую она могла подавать милостыню, но в последние годы она жила именно так, как Дева Мария до семнадцати лет, и кое-что ей поэтому удавалось сделать. Бабушка умерла в 1916 году от недоедания и долготерпения: она уже было проснулась, вздохнула, но тут же снова закрыла глаза. И только тут мы узнали, что, оказывается, она продала свое старое стертое обручальное кольцо для того, чтобы иметь возможность давать мне время от времени какую-нибудь мелочь — ей хотелось быть во всеоружии перед моим шантажом. В ту пору, ожесточенный хлебом с солью и оливковым маслом, я стал грубым и наглым парнем. Но стоило мне только произнести первый слог бранного слова или выразить малейшее сомнение в добродетели какого-нибудь святого, как бабушка, заплакав, спешила извлечь монетку из недр своих юбок.
Бабушка, молишься ли ты сейчас за меня? Если о твоих добродетелях я хочу сообщить епископу анонимно, то это только потому, что сам я никогда не был достойным человеком, не был даже тогда, когда ты покинула нас навеки. В тот день я написал в твою честь стишок, где «старушка» рифмовалась с «подушкой» и «верхушкой», но когда вечером оттуда, где ты лежала, окруженная свечами, донеслось вдруг легкое детское дыхание (разумеется, и это чудо тоже было разыграно в лотерею всем районом Матердеи, разве я мог о нем промолчать!), я выскочил за дверь и пошел на улицу Партенопе, чтобы посмотреть последнюю серию фильма «Серые мыши». Добавлю еще, что, обряжая тебя для погребения, мать обнаружила, что вокруг бедер ты носила вериги с толстенными узлами; и вот на этом, бабушка, твоя история заканчивается, хотя, если бы тебя подвергли еще и вскрытию, я уверен, оказалось бы, что позвоночник у тебя сделан из четок, из пятнадцати четок со всеми изображенными на них чудесами.
Повторяю — случается, что я думаю: «А поел бы я сейчас хлеба с солью и оливковым маслом». Годы, прошедшие с той давней поры, привели меня к совсем другой жизни и другим блюдам. Мой стол не ликует, но и не скорбит: на нем регулярно расстилается скатерть. Видимо, я не передам моим детям хлеба с солью и оливковым маслом, как передали его мне мои предки по матери: мои сыновья, вероятно, будут к нему равнодушны. Хорошо это или плохо? Когда я думаю, что охотно поел бы хлеба с солью и оливковым маслом, я не только сразу же ощущаю его вкус, я чувствую свою связь со всеми, кто ел его вместе со мною, связь гораздо более прочную, чем естественные узы крови. Моей первой семьи уже нет, старики умерли, сестры живут теперь своим домом. Но если я скажу: «Поел бы я сейчас хлеба с солью и оливковым маслом» и они меня поймут (в этом я не сомневаюсь), то можно ведь и попробовать! Давайте, Мария и Ада, давайте соберемся за моим или за вашим столом и расстелем скатерть.
Одна из вас разломит кусок черного хлеба, он такой сухой, что скрипит, когда его ломают. Потом положит кусочки в супницу и нальет туда воды, стараясь не перелить лишнего. Немножко соли, очень немного масла. Вы не можете ошибиться, ведь вы родились с этим умением. И вот мы начинаем есть. Нас затопляет ощущение свежести и грусти и соединяет нас воедино. Мы опять, как когда-то, сестры и брат, мы опять — один дом, и нам одновременно чудятся приближающиеся легкие шаги, родная рука перебирает нам волосы и по кухне разливается свежее детское дыхание.
Раз в год, но всегда летом мне приходит по почте десяток открыток с видами Неаполя. Я получаю их сразу все вместе, одновременно, целый пакет фотографий, настоящий маленький фильм; у каждой на обороте лишь дата и подпись: «Луиджи Де Манес». Это старый мой друг, наши молодые годы прошли вместе: он пишет на открытках только свой адрес и имя, предполагая, что остальное довершат сами открытки, как только адресат бросит взволнованный взгляд на места, что на них изображены. Ну что же. Вот десять «платиновых», то есть глянцевитых и сверкающих, как медальоны, открыток; и послушай-ка, дорогой Луиджи, на какие они навели меня размышления, эти твои открытки от 30 августа.