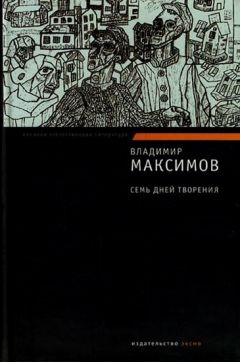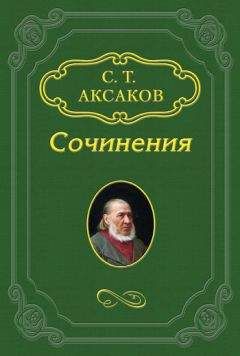Затяжной дождь, наглухо оседлав окрест, сопровождал Петра Васильевича от самого Узловска. Казалось, поезд движется дном огромного водоема: дома, лесополосы, верстовые столбы, причудливо изламываясь в дождевом мареве, грузно оплывали по оконному стеклу.
Прямо против Петра Васильевича, на почтительном, однако, расстоянии друг от друга томились в маятной неприязни двое — он и она. И по тому, с какой надменной неподвижностью утвердила она — сухая жилистая баба — свой по-птичьи профиль, отворотившись от него, — бритого наголо толстяка в затасканном офицерском кителе с жиденькой полоской орденских ленточек вдоль левой груди, — можно было безошибочно определить степень их родства и взаимоотношений.
Затравленно и жалко взглядывая в ее сторону склеротическими глазами, толстяк, словно заведенный, то и дело выжидающе тянул:
— За руки ходили…
Но птичий профиль оставался все так же прям и неподвижен, и только узловатые руки ее, нервно тискавшие носовой платок, всякий раз после его слов на мгновение судорожно замирали…
— За руки ходили…
Судя по всему, безоблачные те времена их минули лет не менее тридцати тому, но искра счастливой поры, видно, еще теплилась в одном, хотя и слишком слабо, чтобы отогреть давным-давно угасшее сердце другого.
Наконец, она не выдержала, встала и надменно выплыла из купе. А толстяк, словно только и ожидавший ее ухода, прорвался перед Петром Васильевичем.
— Пью, конечно, не без того… А с чего пью? Лет пять, как демобилизовался, а приткнуться не к чему… Поначалу бросили на Дом культуры… А разве это порядок, кадрового офицера в культ-просвет? Иной двум свиньям хлёбова не разольет, а ему, пожалуйста, пост. А меня, где дыра похуже, туда и пихали, пока сам не плюнул и не ушел на пенсию… И потом дети… Гонору в них тьма, а уважения к родному отцу никакого. Все уязвить норовят, снасмешничать, солдафон, мол… Здесь и святой запьет… И вот, на старости, можно сказать, — он явно кокетничал возрастом в расчете на сочувствие собеседника, — разводную. Каково? Вырастил, выкормил, а теперь: от ворот поворот! — Он неожиданно осекся, заслышав близкие шаги своей благоверной. — Так-то, дорогой товарищ…
Она вошла, не удостоив их даже взглядом, села и птичий профиль ее вновь молчаливо замер у истекавшего ливнем окна.
А Петру Васильевичу вдруг представилась на ее месте другая женщина, много лучше и моложе, в другие, куда более строгие и тревожные времена, сидевшая вот так же прямо против него в служебном купе поезда, который он тогда сопровождал.
Только была ночь и было лето.
Забившись в дальний угол, Мария, подобранная им в Епифани по просьбе знакомого путейца, доводившегося ей дядей, не мигая, и даже как бы с вызовом смотрела в его сторону и молчала. Молчал и обер. Привыкнув разговаривать с такого рода пассажирами в тоне грубоватого покровительства, он неожиданно для себя робел перед нею и смущался. Что-то увиделось обер-кондуктору в этой неказистой с виду девахе, отчего ему всякий раз, едва он вознамеривался взять былой тон, перехватывало дыхание.
Первые слова вымолвил, будто гору одолел:
— Узловские сами?
Она ответила коротко, но с готовностью:
— Не, мы с шахты.
— Сычевские, значит?
— Они самые.
— В гостях были?
— Не, по хозяйству. — И тут же пояснила: — Тетя Груша приболела, дом присмотреть некому, а нынче встала, вот я и к себе… Смерть соскучилась…
— Скоро будем.
— Скорей бы.
— Много ль вас дома-то?
— Окромя меня, пятеро. Мать с отцом и сестер трое.
— Нелегко отцу-то?
— Нелегко.
В их разговоре, во внешней его обыденности таился еще и другой, понятный только для них двоих смысл, где каждое слово имело свое сокровенное, понятное только им значение. Стремительно и властно ее и его захватывало предчувствие неотвратимости этой встречи и поэтому, чем ближе и устойчивее становились огоньки Узловска в заоконной темени, тем трепетнее и тише звучали их голоса…
— Весело у вас в Сычевке…
— Уж там и веселье: выпьют парни да куражатся.
— Узловские наши ходят?
— Не, стерегутся.
— Что так?
— Не привечают их у нас ребята…
— Чем же не пришлось?
— Чисто ходите… И другое, разное…
— А коли не побояться?
— Попытайте долю…
Первый станционный фонарь раздвинул ночь впереди, и, победно возликовавший было обер, впервые, пожалуй, за недолгую свою службу подосадовал столь скорому прибытию:
— Значит, не прогоните?
— У нас места всем хватит, — скокетничала непонятливостью она. — И девки наши не хуже узловских.
— А мне всех и не надо…
И он, наверное, не выдержал бы, выложил ей все, что вдруг так внезапно и жарко заполнило его душу, но поезд, в последний раз дрогнув, замер. Мария поднялась, прошелестела мимо него к выходу, откуда молча поклонилась ему, и тут же исчезла в проходе.
А на другой день к вечеру, едва за Хитровым прудом выплеснулся первый балалаечный перезвон, Лашков в свежей суконной паре уже вышагивал в сторону Сычевки, и хромовые — бутылками — сапоги его празднично блистали в розовом свете затухающего заката.
И еще не дойдя до околицы, услышал он, выделенный им теперь изо всех голосов, ее голос, и все замерло в нем, и душное стеснение под сердцем перехватило ему горло…
Гармонист, играй припевки,
Расставайся, Мишенька.
Не спешите замуж, девки,
Еще хлебнете лишенька…
А та, будто чувствуя его недалекое присутствие, неслась к нему очередной припевкой и душа его при этом головокружительно холодела:
Платье белое наглажу,
Вдоль по улице хожу.
Захочу кого — отважу,
Захочу приворожу.
Долго еще ходил он вокруг посиделок, стесняясь чужаком втереться в шахтерское веселье, пока, наконец, Марию уж после полуночи не вынесла к нему последняя ее частушка:
Гармонист у нас один,
Балалаечник один.
Не ходите, не просите,
Никому не отдадим…
Мария выявилась перед ним в темноте так близко, так неожиданно, что он только нашелся:
— Вот к родне наведывался…
Та лишь обморочно выдохнула:
— Здравствуйте, Петр Васильевич…
И хотя в эту ночь у Хитрова пруда они сказали друг другу едва ли более двух слов, он, возвращаясь к себе, не шел, а летел, опаленный никогда ранее не изведанной им радостью.
Его свалили почти у самого подхода к слободе против соседствующего с его усадьбой кимлев-ского сада, а свалив, били с молчаливым остервенением, даже, казалось, сладострастием. И только когда кровавые круги поплыли перед разбухшими глазами обера, к нему сквозь ускользающее сознание пробился чей-то хриплый от азартного жара голос:
— Не добивайте, братцы, пусть покашляет, пес… И другим дорогу в Сычёвку закажет… Рылом покуда не вышли да для наших девок…
Один Бог знает, как он добрался домой. А когда пришел в себя, то вместе с утренним светом и болью воспринял ошеломляюще знакомый, тронутый отчаянием говорок:
— И что же они с вами сделали, ироды! Звери дикие, угольная прорва… Хуже зверей, право… Ироды!
— Маша, — только и сказал Лашков, снова впадая в забытье, — не уходи…
И она осталась.
Осталась до самого того слякотного мартовского дня, когда четыре ее свояка на двух полотенцах вынесли ее за порог лашковского пятистенника.
И не раз еще потом переживший дочку отец ее — Илья Махоткин — по пьяной лавочке, минуя дом Петра Васильевича, с хмельной укоризной кричал в сторону его окон:
— Погубил ты, Петька, ирод, девку! Голубиную душу погубил! Сушь, сухой дух от тебя идет… Кащей ты, ирод, который бессмертный, и нет в тебе ни одной живой жилы. Христос с тобой!..
Размытый было воспоминанием, против него вновь обозначился птичий профиль неколебимой соседки, так-таки и не отвечавшей на жалобный зов своего отставника:
— За руки ходили…
IX
В Москве Петр Васильевич не был с того самого дня, когда, сдав кондукторскую сумку и служебный компостер, он возвратился домой обыкновенным пенсионером. Поэтому сейчас, после сравнительно устойчивой тишины Узловска, она увиделась ему еще более, против прежнего, гулкой и неуютной. Долго, стараниями даровых советчиков, блуждал он в паутине Сокольничес-ких переулков, пока не отыскал обозначенную в его адресной справке улицу. Нужный ему номер возник перед ним сквозь листву корявого тополя, стоявшего у деревянного, в два этажа, дома, над крышей которого гляделся другой — каменный, ростом повыше. Войдя во двор, Петр Васильевич встал, чтобы перевести дух. Сердце его тревожно обмирало и дергалось: «Сорок с лишком лет, шутка ли!»
В сумраке пропахших кошачьим бытом сеней он с трудом нащупал кнопку дверного звонка и, позвонив, еще раз обеспокоился: «Откроет и не узнает, да». Но едва в проеме двери перед ним определилось заспанное, в сивой щетине лицо, как всякое сомнение оставило Петра Васильевича: за порогом, словно его собственное отражение в зеркале, вяло переминался с ноги на ногу старик явно ихней — лашковской породы. И тот, в свою очередь, будто пролегло между ними не около полувека разлуки, а всего, может быть, от силы день-два, лишь слегка присвистнул навстречу гостю: