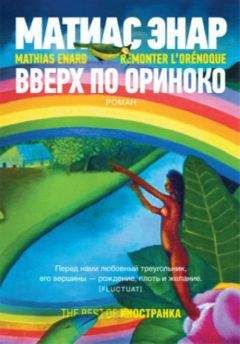Ода, вооруженная психологическими премудростями и опытом работы с детьми, страдала не меньше, а может быть, даже больше дочки; она ходила из угла в угол по квартире, затыкала уши, останавливалась, умоляюще и растерянно глядя на меня, не в силах больше защищаться логикой от безрассудной материнской любви; размышлять, вникать, понимать, действовать разумно и здраво она могла с пациентами, но дома, слыша, как, надрываясь, плачет каждый вечер в своей кроватке Илона, она, как и я, не могла взять себя в руки, строго сказать себе: ничего не поделаешь, такова жизнь, малышам нужно научиться засыпать. Ода не могла бросить Илону, так она говорила, — я не могу бросить маленького ребенка, говорила она, он страдает, мучается, я возьму ее на руки, успокою, и она бежала к детской, но на пороге замирала, нерешительно смотрела на меня, спрашивая взглядом, сколько времени плачет наша девочка, стояла в полной растерянности, а потом все-таки входила, брала Илону на руки и мучилась еще горше оттого, что сейчас снова положит ее в постель с мокрыми щечками и дрожащими губками.
Как раз в то время, когда Илона плакала ночь за ночью, и я был сам не свой от ее горестного плача и невыразимого, невыносимого отчаяния, с каким моя дочурка плакала в своей кроватке, и продолжал слышать ее плач даже у себя в больнице, вот тогда я случайно увидел другую девочку, увидел на один короткий миг, но в этот миг протянулась ниточка от меня к ней. Конечно же она была старше, и все-таки совсем маленькая, лет пятнадцати, не больше, санитар вкатил каталку, и на ней лежало что-то окровавленное в мотоциклетном шлеме, я не знаю, почему я попался им по дороге, не знаю, почему посмотрел ей в лицо и поймал ее взгляд, уже с поволокой, я случайно оказался рядом, шел к шкафу с инструментами, а на ней разрезали шлем, но я увидел ее и понял, что она меня тоже видит. Я знаю, она меня видела, без маски, погруженного в мысли о дочкином плаче, потому что по вечерам она плакала как раз в это время, — перехватила мой взгляд, направленный ей в глаза, и этот миг объединил нас; посмотрев, я решил: она выкарабкается, она ведь не потеряла сознания, когда ее привезли, перелома черепа нет, кровотечение и порезы — это пустяки, малышка, это мы все починим, вот увидишь, как мы умеем это все чинить, да, поражений много, четырехглавая мышца порвана, но это не страшно, в брюшине ранения, не помню, кто со мной оперировал, был анестезиолог и, кажется, еще Нивель, он занимался переломом, большая берцовая кость торчала на три сантиметра, но главная опасность — внутреннее кровотечение, нет, все пошло не так уж гладко, давление и пульс скакали, и я тоже дергался, обнаружил, что задета артерия, прямо перед почечной лоханкой, и подумал, хорошо, что ее так быстро привезли, срочно кровь, переливайте, прободение ободочной кишки, но ты выкарабкаешься, девочка, давление, пульс, потекла вдруг откуда-то кровь, дренаж, дренаж, я ничего не вижу, но продолжаю работать, работаю изо всех сил, ты выкарабкаешься, под пинцетом из печени сочится черный секрет, пот заливает мне глаза, но ты выкарабкаешься, пульс, давление, истерический писк монитора, оказывается, ударом раздробило заднюю часть гипофиза, а я ничего не увидел, как
это может быть? Анестезиолог взял меня за руку, честно говоря, я уже не помню, но, по-моему, это анестезиолог взял меня за руку и сказал, все кончено, бесполезно, конец. Но я не желал понимать, кажется, я сказал, не выпуская зажима: оживите ее, а он уже опустил голубую маску, маска болталась у него на шее, и он показывал мне развороченную брюшную полость, анестезиолог уже уходил, экран монитора потух, и я увидел, что в самом деле травмы не совместимы с жизнью; теперь я видел это совершенно отчетливо: мотороллер, врезавшись во что-то непробиваемое, очевидно в стену, буквально впечатался ей в живот, с самого начала было ясно, что ее не спасти, но в этот час плакала моя дочка, совсем кроха, я недавно стал отцом, она прожила на свете только полгода, а эта пятнадцать, и я не мог снять маску.
В маске я уселся на стул и старался ни с кем не встречаться взглядом, сидел обессиленный, опустошенный, будто после сумасшедшей гонки, оставив частичку души в теле чужого ребенка.
Она могла бы вспомнить другую близость, близость более тесную, знакомую в малейших подробностях, но в душной тени тента, натянутого над палубой, где она пила кофе в объятиях Ориноко, из головы почему-то не шло беглое осторожное прикосновение Илии; она явственно, отчетливо помнила, что, закрывая книгу, он взял ее руку и сразу же отпустил и, переменив тему разговора, заговорил о контрабанде, работорговле и других подпольных промыслах; налив себе еще кофе, он сказал (она мельком взглянула на часы: времени впереди достаточно, можно не торопиться): контрабанда в здешних местах — это традиция, сказал он. Порт построен благодаря контрабанде, контрабандисты у нас господа и герои. Богатые семьи, те, у кого роскошные особняки в центре города, жили ею и живут до сих пор, а в кварталах победнее все, кто днями напролет сидит на террасах кафе и в тавернах, ты их видела, они не просто сидят, они ждут: поручений сомнительного свойства, задания, команды. Думаешь, контрабандой провозят только наркотики — марихуану и кокаин? Вовсе нет. Хотя в наши дни — да, чаще всего наркотики. Но контрабанда не столько образ действий, сколько образ мыслей. Здесь на протяжении веков все занимались спекуляцией, торговали всем и со всеми подряд, на суше и на море, с островами и с соседними странами, все шло в ход — спиртное, оружие, табак, кофе, любые товары, украшения, золото, серебро, драгоценные камни, нефть, бензин и даже скот. Люди жили контрабандой. Приключения контрабандистов воспевали в песнях, о них самих слагали легенды. Мальчишки и теперь мечтают, как будут удирать от погони звездной ночью, обводить вокруг пальца таможенников, драться из-за грузов, блюсти разбойничью честь. Три вещи могут обогатить тебя и прославить в здешних краях: спорт, быки и контрабанда. Повторяю, наш идеал — контрабандисты. Главное для них — обойти государство, власть, закон. Они упиваются своим умением прятаться в тень и нарушать любые границы. Независимость, сила характера, вошедшее в легенду благородство… На самом-то деле в сегодняшнем контрабандисте нет и в помине этих качеств, ну, разве что кивок в сторону традиции… Исчезли независимые контрабандисты-одиночки, работают корпорации, есть помощнее, есть послабее, контрабанда — бизнес, как любой другой, но местные жители дорожат романтическим духом, хотя жив он только в их воображении.
Надо сказать, что в нищих кварталах восточной части города, в трущобах, которых у нас больше, чем мух на навозе, никто и думать не думает о благородных контрабандистах, там вообще не думают, месят грязь и выживают любой ценой вопреки священникам и наводнениям. Там осели выходцы из центральных районов страны, а это люди с совсем иной начинкой. До бандитизма их доводит безысходность, и они убивают за пару долларов или браслет, сверкнувший как золотой. Изменились времена, другой социальный слой подается в пролетарии преступного мира. Обесценилось ремесло. В эпоху индустриализации и сверхприбылей для людей, работающих руками, не осталось места. А кланы спекулянтов стали богаче государства, они содержат собственную армию, у них свои самолеты и вертолеты. Они сами по себе. Тоже своеобразный прогресс. Границы сместились, обитатели тьмы вышли на солнце.
А мы? Нам мало что остается.
Наша больница — вот уж злая ирония! — страдает теми же функциональными расстройствами, что и больные, которых мы лечим, ее трясет от вирусных инфекций, у нее появляется своя хроника; гангрена мало-помалу разрушает самые старые корпуса, куда сослали «нетехнологичные» отделения, там лежат выздоравливающие, старики и те, кто восстанавливается после травм. Больница тот же организм, он не обновляется, он стареет, лечащие врачи, сестры, нянечки — все стареют вместе с палатами и кабинетами, а администрация директор, завотделениями со всеми своими «корочками», бухгалтерия, секретариат, одним словом, мозг больницы — ничего не может поделать со старением, с обветшалостью, хоть и старается как можно лучше управлять тем, что рушится на глазах, но все равно наступает день, когда приходится принимать тяжелые решения: это снести, то закрыть, правое крыло перестроить, ликвидировать что-нибудь совсем уж ни на что не годное. Наш маленький мирок достиг последней стадии разложения, а месье Бенуа, директор, симулирует «спокойствие и энтузиазм капитана, чье судно идет ко дну», как шутит Юрий, да, месье Бенуа любит сильные выражения и яркие образы, нам нужно, твердит он, нащупать новый профиль, и устраивает семинар по внутрибольничным инфекциям, о которых столько шума в газетах; он изыскивает средства, лавирует между администрацией, профсоюзом, бухгалтерией, медициной, больными и медицинским факультетом университета, трудится без устали, изобретает все новые ходы, — как-никак это его больница, — мозговой штурм, task forces[7], командные проекты, переподготовка, и все с улыбкой, госпитализация на дому, будущее за телемедициной — такой он выдвинул лозунг; в каком-то смысле это означает избавиться от пациентов, мысль, конечно, интересная, но как ее осуществить, не потопив при этом весь корабль? Вспоминаю об одном очень бурном заседании (как я попал туда? в каком качестве?), присутствовали все заведующие отделениями, вся администрация, месье Бенуа показал высший дипломатический пилотаж, стараясь, чтобы все остались довольны, но врачи (и я в том числе) ничего не поняли, не желали понимать, не выпускали из рук кадуцей[8], держались за свои прерогативы, как за спасательные жилеты; наши обязанности ясны — лечить и передавать опыт, наш статус тоже — на этом мы и стояли все без исключения, остального просто не слышали. Значимые для нас ценности — образование, служение обществу, личная независимость, — умирают, как умерли античные боги, наш мир уже мертв, думал я, а мы, как последние язычники Александрии, цепляемся за трижды величайшего Гермеса, но не обольщаемся: наш мир уходит, и уходит он навсегда; у всех нас за спиной авторитетное учебное заведение, все мы безоглядно верим в медицину и антибиотики, но мы не способны понять, как изменилась вселенная, мы пленники нажитого образа мыслей, который больше никак не соотносится с реальностью. Нашим богам никто уже не поклоняется, в нас утратили веру, а мы утратили верующих, как жрецы Исиды в Тифорее.