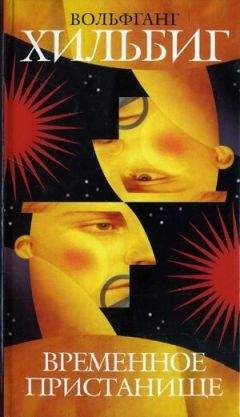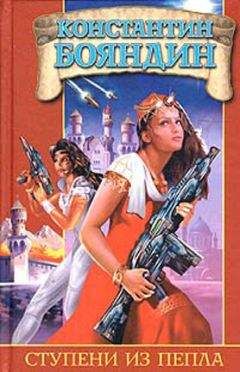Хотя пластинки практически ушли из продажи – музыкальная индустрия давно перестроилась на производство компактов, – Ц. с год назад приобрел проигрыватель. Устройство досталось ему почти даром, на распродаже квартирного имущества после смерти хозяина; они с Геддой прочли объявление и поехали на ее «фордике» по адресу, указанному в газете. Поехали, собственно, ради комода (скомканные полотенца, трусы и пижамы так и валялись клубком на книжных полках), но Ц. увидел лишь чудный антрацитовый проигрыватель. Заплаканные люди в черном заметно обрадовались тому, что на эту штуковину кто-то позарился. Нагруженный громыхающей четырехугольной бандурой и двумя колонками, под градом отчаянных насмешек Гедды, которая никак не могла смириться с его пропылившимся исподним, «фордик» тронулся в путь.
Проигрыватель стал новой преградой на пути к письменному столу; теперь Ц. вынужден был целыми днями прочесывать, город в поисках пластинок, продававшихся за бесценок на барахолках или за баснословные антикварные суммы в музыкальных лавочках. Он не стал намного лучше знать Нюрнберг, выяснил только, что трактиров и ресторанов в городе несусветное множество. Нюрнберг был опутан поистине устрашающей инфраструктурой спиртозаправок, и страдать от дефицита там, где царит идеальное снабжение, оказалось непросто. А он поминутно начинал новую жизнь, решаясь к своему синдрому дефицита относиться сознательно и синдром этот превозмогать выдержкой. Любых кафе по возможности избегал, а если и случалось вдруг туда заглянуть, то заказывал только кофе и минеральную воду, что самому же казалось унылым эрзацем.
Как-то раз, когда Ц., в разладе с собой, топтался перед одним ресторанчиком в северной части центра, его вдруг окликнули. Перед ним стояла женщина, которую он, несмотря на явственно подаваемые ею сигналы узнавания, все же не узнавал. Он сказал наобум, что времени у него, конечно, мало, но кофе выпить необходимо. Не составит ли она ему компанию на полчасика. «Ой, – смутилась она, – а вы непременно хотите сюда? Давайте что-нибудь другое поищем». И, легко подхватив его под локоть, оттеснила от входа. Это едва ощутимое касание ее руки напомнило: однажды она его уже уводила, в Нюрнберге, после чтений. Женщина сидела в зрительном зале. Взяла автограф, а после предложила подвезти до Кобергерштрассе: сама, мол, на ней живу, в одном из соседних домов. И этой легкой, как перышко, ручкой отрядила к машине. Обескураженных братьев с Востока, подумал он, у нас в стране положено опекать, и остальная публика, когда у нее из-под носа уводят автора, смиряется с неизбежностью. В машине она спросила, знает ли он, что это уже вторая книга, которую он ей подписал. Помнит ли он свое выступление в Регенсбурге. Впрочем, он, наверное, так много ездит и стольких людей встречает – всех не упомнишь.
Он считал свою память неподатливой от природы, алкоголь всемерно способствовал этому недостатку; куда меньше повинно в этом разнообразие дорожной писательской жизни… романтические идеи! Но сейчас его вдруг осенило: за год до выдачи годовой визы его ненадолго уже выпускали – на чтения в Регенсбург. И после тех регенсбургских чтений, влекомый той же рукой, он брел к той же самой машине; вторая рука держала зонтик над его головой: хлестал такой ливень, что до гостиницы было не добежать. Края зонта закрывали ему обзор, вслепую, не разбирая дороги он шагал через водные хляби, целиком доверившись трем намагниченным пальчикам, державшим его под локоть; Регенсбург, загадочный Запад, статус-кво, холодная война, идиотизм этого мира – все на мгновение потонуло в неистовой буре, извергавшей на пугающе крохотную жестянку автомобиля громы, молнии и оглушительные потоки. Уже в машине он заметил, что на заднем сиденье съежилось, не произнося ни звука и, как видно, в стремлении сделаться незримым, еще одно существо женского пола. Лишь много позже он узнал, что сзади сидела Гедда.
А потом на лейпцигский адрес прислали куртку из желтой кожи – ее прислала та самая женщина, что стояла сейчас перед Ц. К посылке прилагалась записка: он тогда в Регенсбурге, писала она, был так легко одет. А поскольку грозы бывают и в Лейпциге, не только в городе Регенсбурге (который само имя обязывает к дождям), то пусть он, пожалуйста, примет в подарок куртку. Посылку, судя по штемпелю, отправили уже из Нюрнберга.
– Наконец у меня появилась возможность сказать вам спасибо за куртку, – сказал Ц., – тогда в Нюрнберге у меня это совершенно вылетело в головы. Извините. Я даже не написал вам, не отозвался никак. А ведь куртка пришлась впору.
– В Нюрнберге вы, наверное, и не помнили, кто я такая. А письмо мое было глупое, имя Регенсбург вовсе не от слова «дождь», а вроде как от крепости регента или что-то в этом духе.
– Для меня это тоже новость, – сказал Ц. – Может – сюда?
Они стояли у входа в очередной ресторанчик, но ей, похоже, опять не нравилось.
– Или туда. – Ц. махнул рукой на другую сторону улицы. – Там вон сразу два. Или даже три…
Он чувствовал ее сопротивление, но возражать она не стала и наконец последовала за ним. Войдя, он сразу сообразил, почему она колебалась: в сумеречном, зияющем пустотой зале – разве что на высоких табуретах дуют пиво два или три субъекта в бесшабашно пестрых рубахах, с ювелирными коллекциями на шеях, руках и в ушах, – в глубине, за стойкой, стоял телевизор; на экране кучка нагих человеческих тел с акробатической ловкостью совокуплялась; сквозь склизкую музыку неслись упоенные причитания участников. Ц. испуганно взглянул: не рванет ли спутница к выходу, но та храбро уселась спиной к экрану, за угловой столик; он занял место напротив. От стойки, шаркая ногами, отделилась женщина… от самых поганых мыслей он, вообще-то, старался себя оберегать, но эту женщину иначе как засаленной испитой старой каргой не назовешь… Она склонилась, просунувшись между их головами, и спросила, осклабившись, чего они желают. Ц. спросил два кофе; когда их принесли, он сразу же расплатился. Женщина, не считая, высыпала мелочь в карман фартука и отошла; Ц. спросил:
– Может, уйдем отсюда?
Когда спутница робко кивнула, он выпил обе чашки и поднялся.
– Извините, – сказал он, когда они вышли на улицу, – я не знал, что так будет.
– Ничего страшного, получилось небезынтересно, – отозвалась она. – Но приходите-ка лучше пить кофе ко мне домой, я ведь вас уже приглашала…
Оказавшись в своей квартире, он попытался припомнить те регенсбургские чтения. Это было почти невозможно: перед глазами была полумгла, туманные водянистые образы, блеклые цветовые пятна неоновых вывесок, сверкание омытых струями автомобилей, витрины за пеленой дождя, сырая одежда клубится паром, забрызганные стекла очков даже в зале, когда он читает, квакая, как квакуша, грязня запинками текст, и хлопки фонтанчиками растекаются в разные стороны. Уже в поезде, по дороге обратно, Запад полностью скрылся из виду – в стекла безостановочно бил дождевой шквал.
– Только смотрите не подхватите крупозное в нашем проклятом капитализме, – говорили ему.
– Неплохая мысль, – отвечал он. – Тогда мне придется сперва подлечиться. Сколько такое обычно длится?
– Мы найдем врачей, если захотите остаться подольше, вам организуют воспаление легких.
Подобные разговоры он вспоминал потом, в Лейпциге; они озаряли Запад особым светом, перед которым меркло даже воспоминание о холодном дожде, что лил весь остаток лета. Была в этих речах теплота и беспечность, которых ему, когда он вернулся в Лейпциг, хронически недоставало.
Лейпцигом владела недвижность, полоса депрессии, как Ц. называл это время; ни одна живая душа не ведала, как выйти из этого состояния. С обеих сторон так называемого железного занавеса стояли атомные ракеты – крохотной доли хватит на уничтожение всего сущего – и таращились друг на друга: между ними – территория возможного взрыва, две Германии. Стороной восточной правила кряжистая фигура, именуемая Черненко, льдисто-сизый покойник с окоченелым лицом, которого время от времени выставляли на Красной площади, где он не шевелясь стоял на трибуне, зажатый между своих генералов; при малейшем движении этого зловещего монумента наверняка раздался бы скрежет и хруст ледяного тороса. Считалось, что он недвижим, поскольку привинчен спиной к деревянным подпоркам. Западным полушарием правил другой раковый больной, казавшийся чуть более подвижным лишь по той причине, что когда-то играл в Голливуде. Однажды Ц. пришлось выступать в университете калифорнийского города Санта-Барбара, и у него создалось впечатление, что этот уже смененный в должности американский президент полностью держал городишко под ногтем. Белесый от зноя, городок лежал кротко и тихо, разве что в гавани да в университете проистекала жизнь. Все остальное, казалось, служило в танковой армии, охраняя располагавшееся неподалеку ранчо, в котором забаррикадировался Рональд Рейган.