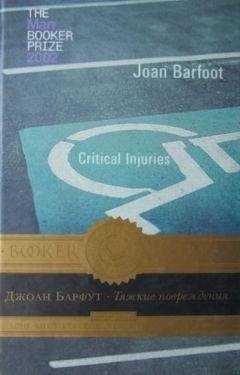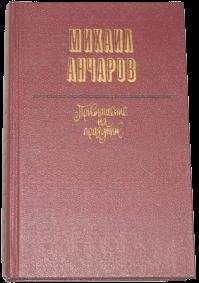— С чего? — это все, что у нее получается. Этого достаточно, чтобы он смутился.
Но он же здесь. Он старается. Она должна быть ему благодарна.
Нет. Благодарность выглядит жалко, она не может так унижаться. И он так долго не сможет.
Это не может быть надолго. С ней, с такими, как она, не должны происходить такие вещи.
Но происходят. Из толпы людей без особых проблем постоянно выхватывают кого-то, без всякой системы, наобум, выхватывают и швыряют в настоящий ад. Почему не ее?
Потому. Потому что разве нет какой-нибудь нормы несчастий? Разве она свою уже не выполнила и Лайл тоже? Потому что она только-только снова начала радоваться жизни, с ним, всего несколько спокойных лет. Так кто ведет учет, что за садист, который ни считать, ни оценивать толком не умеет? Просто не верится, она бы покачала головой, но как раз этого не может — и многого, многого другого.
Что она тогда может? Злиться. Помнить. Самые глубокие потрясения остаются с тобой навсегда, — это она тоже знает благодаря Джеймсу. То, что она знает о нем, до сих пор бьет ее, как током, и сила этого тока снова и снова ее удивляет. Когда люди говорят о событиях, от которых содрогается земля, они имеют в виду что-то большое или ужасное. Как военные преступления, или убийство, ураган, рождение ребенка, откровение. Откровение в почти библейском смысле, апокалипсис. Судный день. Как пуля.
Вот это мгновение у дверей «Кафе Голди». Настоящий апокалипсис.
Почему запоминаются вещи потише, которые трудно определить, неизвестно: разговор, жест, цвет, образ; что-то запоминаешь, потому что внутри звучит как приказ: Не забывай. Запомни все до мелочей.
Нужно верить, что все это временно. Нужно убеждать себя в этом.
Итак, когда она снова встанет на ноги, нужно будет помнить, что прожить обычный, предсказуемый, невыразительный день — уже благословение. Она должна будет помнить, осознавать, как любит выражаться Аликс, чего она достигла, что заслужила и чего хочет, что у нее сейчас отнято.
Она привыкнет помнить, что об этом нужно помнить. Небольшой план, но в этой ситуации хоть какой-то план — уже чудо. Она зубами в него вцепится; если бы она чувствовала свои зубы, если бы могла во что-нибудь ими вцепиться. Пока она может только скалить их, улыбаясь Лайлу, как волк из постели бабушки Красной Шапочки, но только, хочется ей верить, немного добрее.
Они все расспрашивают, что там было.
— Расскажи, что ты натворил, сынок, — говорит тот, который повыше и постарше. Это тот, который там, в поле, когда Родди смотрел снизу на безразличных собак и звезды, счастливый до чертиков, вдруг появился в поле его зрения, держа в напряженных вытянутых руках пистолет, нацеленный на Родди.
«Не шевелись, парень, — сказал он. — Просто не делай лишних движений. Понимаешь, что я говорю? Скажи, что не будешь дергаться. Давай. Скажи».
«Ладно», — сказал Родди.
«Спокойно», — произнес другой голос, и собаки отбежали в сторону. Но недалеко. Он слышал, как они дышат.
Другой, помоложе, стал на колени возле Родди, внимательно его осмотрел. Осторожно обыскал, едва касаясь тела Родди. Кивнул другому, и тот сказал:
«Хорошо, теперь вставай, очень медленно».
Совсем как старик. Ему было почти больно перекатываться, упираться руками и коленками, чтобы встать. И то, что, пока он сидел на земле, молодой завел его руки за спину и надел что-то на запястья, задачу не облегчило. Щелчка не было. На ощупь — пластик, не металл. Родди подумал, что все не так, как по телевизору. Полицейский взял его за локоть и поднял. Родди чуть не упал, когда наконец оказался на ногах.
Другой коп, который назвал его «сынок», отошел назад. Он по-прежнему целился в него из пистолета: черное отверстие. Родди хотел сказать, не надо оружия, но подумал, что говорить, наверное, ничего нельзя. Он не знал, как они поступят. Страшно ему не было, потому что не могло это все происходить на самом деле, слишком нереально было, чтобы бояться. Просто все было так странно: открытое поле, ночь, и молодой коп светит на него фонариком, как будто это на сцене, как прожектор, как в пьесе.
«Пошли».
Обратный путь через поле к дороге, освещенный теперь уже двумя фонариками, был нелегким. Особенно когда руки за спиной, трудно удержать равновесие, не спотыкаться. В этом маленьком путешествии поля, их мелкие бугорки и низинки, незаметные ямки и камни, стали ему чужими, враждебными.
Полицейские, идущие по обе стороны от него и на шаг позади, то и дело покряхтывают. Он слышит тяжелое дыхание того, который постарше, и топот собачьих лап. Шли молча. Молча добрались до машины. Молодой коп положил Родди руку на макушку и усадил его на заднее сиденье, в наручниках, одного.
Дорога, казалось ему, идет по незнакомой местности, как будто он тут впервые. Окраина города, ряды домов, фонари — все это было как в другой стране, может, в Европе, где он никогда не был. Проезжая мимо улицы, ведущей к дому, где он жил еще несколько часов назад, он подумал: «Там бабушка, всего в квартале отсюда, и папа». Но казалось, что на самом деле они где-то в параллельном мире.
А на самом деле они были в полицейском участке: толстая, расстроенная бабушка с покрасневшими глазами, бледный здоровенный отец. Они поднялись со стульев одновременно, как привязанные друг к другу, как марионетки. Только папа остался на месте, а бабушка шагнула к Родди. Но полицейские сказали: «Нет», — и повели Родди дальше, держа его с двух сторон за локти. Он даже не пытался оглянуться. Зачем? Они пришли, но им наверняка кажется, что они его совсем не знают.
Сейчас с ним в комнате двое полицейских и еще один тип, адвокат, которого вызвал отец. Адвокат ему сказал:
— Ты не обязан ничего говорить. Я советую — ни слова.
Родди просто помотал головой.
Когда полицейский говорит: «Расскажи, что ты натворил, сынок, как все было», — Родди молчит не потому, что отказывается говорить. Он молчит, потому что не знает, что сказать. Все было так понятно раньше, когда они только строили планы.
Та женщина. Ее лицо. И потом голос Майка. Слишком поздно, все было слишком поздно, как будто время разладилось и несколько секунд шло назад или наизнанку.
Теперь оно идет, как положено, но это уже совсем другое время.
— Где ты взял ружье?
Ну, это просто. Ружье папино. Папа каждый год берет отпуск на пару недель и уезжает на охоту с сослуживцами. Ни разу, правда, ничего не подстрелил. Пытается, наверное, но не попадает.
Не то, что Родди. Ему вдруг опять становится холодно, он начинает трястись.
— У вас тут есть чем его укрыть? — спрашивает адвокат. — Одеяло какое-нибудь? По-моему, ему нехорошо.
— Еще бы! — говорит тот, который помоложе. — Нет у нас ничего.
Адвокат пожимает плечами.
— Если ему плохо, если он заболеет, то, учтите, это случится во время вашего дежурства. Вам это расхлебывать. Я не знаю, может, уже пора вызывать врача. У него, может быть, шок. Это все очень серьезно.
— Дай ему одеяло, Том, — говорит тот, который постарше.
Внимание Родди переключается с одного на другого. Как будто смотришь спектакль. Мистер Сильветти, учитель английского, в общем, единственный учитель, который Родди нравится, говорит, что в пьесе каждое слово служит определенной цели. Приводит к развитию сюжета. На взгляд Родди, эти разговоры полицейских с юристом ни к чему привести не могут. С другой стороны, ему самому сказать нечего. Но все не так, как было там, в поле. Там он был счастлив, ему хотелось, чтобы так оставалось всегда и можно было и дальше быть счастливым. А здесь слишком яркий свет, стул слишком жесткий, и лица, даже у адвоката, слишком суровые.
Ему кажется, что все это началось в другой, безмятежной жизни, когда они с Майком сидели в начале лета у пруда в парке. Строили планы или мечтали, он не помнит. Они сидели у пруда, но не купались. Было прохладно, они были в свитерах и джинсах, просто решили пройтись.
Множатся тайны и желания. Значит, что-то должно завершиться. Майк сказал:
— Мы хотим уехать в сентябре, так? А где взять деньги?
Родди почти уверен, что это сказал Майк, хотя и сам мог это сказать. Они столько говорили о том, что уедут, постоянно.
Сначала найдут квартиру в городе, где раньше жил Родди. В высотном доме, чтобы видны были огни на мили и мили вокруг. Родди нравилось думать о высотном доме. Казалось, это так благородно и шикарно — ехать на лифте домой или вниз. Нашли бы какую-нибудь работу. Город весь в огнях, здорово. Все эти улицы и улочки, бары, концерты, новые знакомства. Девушки. Это было чуть ли не главным: предполагаемое загадочное, многообещающее разнообразие девушек.
Но Родди не знал, как они это устроят, хотя оставалось всего два-три месяца. Наверное, думал, что случится чудо. Он подрабатывал — стриг газоны, полол клумбы — и думал, что эти деньги будут не лишними. Майк второе лето подряд работал в «Кафе Голди». Его мать дружила с хозяйкой.