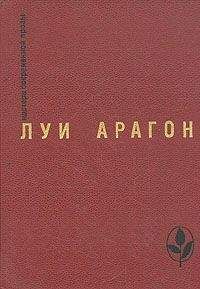Я прихватил с собой «Also sprach Zarathustra»[30] (выпуск VII карманного издания, Taschen-Ausgabe, Alfred Kroner Verlag in Leipzig), поскольку мне вовсе не улыбалось, чтоб в случае еще одного визита ко мне во время моего отсутствия какой-нибудь Манжматен нашел материал для разговоров о моей любви к Ницше. По правде сказать, мне этот писатель не нравится, читать его мне трудно — так что я листаю, выуживаю случайные сентенции, раздумываю над ними. Поскольку выхватываю их из контекста, то, бывает, понимаю шиворот-навыворот. Плутаю, как по лесу, возможно, и отклоняясь от пути, проложенного автором, но зато погружаюсь в чащу, которая мне куда больше по вкусу. Так во времена средневековья обращались к Вергилию, и практическая мораль, в его книгах почерпнутая, наверняка весьма удивила бы дражайшего мантуанского лебедя меж его водяных лилий. На этот раз я наткнулся на фразу, смысл которой сводился или по крайней мере, как казалось мне, сводился к тому, что в каждом из нас заключена огромная нравственная сила, но у нас нет общей единой для всех цели: на самом-то деле Фридрих говорит совсем не то, он утверждает, что мы обладаем огромной силой нравственных чувств, но не имеем цели, не знаем, куда направить все эти чувства. Это из посмертно опубликованных заметок, поясняющих смысл «Заратустры», параграф, который следует за тем, где сказано, что все цели уничтожены (alle Ziele sind vernichtet).
Перед параграфом, где утверждается, что наука указывает направление движения, но не цель… Так что я понимал все превратно, воображая, будто Ницше сожалеет об отсутствии какой-то цели, единой для всех людей, тогда как он говорил о совокупности нравственных чувств, сообщающих нам огромную силу, но силу бесцельную. Почему я увидел в этой, идущей вразрез со смыслом, идее смысл, суть ситуации, в которой оказался сам? Коль скоро я сам не знаю, куда идти, думал я, могу ли я предложить женщине разделить мою судьбу, пусть даже я и обладаю этой нравственной силон… Мог ли я, как Ките в своем забавном стихотворении, предложить, что стану ее Джеком, согласись она стать моей Джилл? «Rantipole Betty» — резвушка Бетти Джона Китса — он называет ее «You young Gipsy»[31] походила, вероятно, на мою Бетти с ее цыганскими глазами.
Четыре дня спустя я вернулся в Решвог, который вопреки очевидности никак не решусь назвать Оберхоффеном. Было уже поздно. Все спали. Я отправился прямо домой. Хозяева, не желая упустить случая перекинуться в картишки, поднялись, соорудили мне на скорую руку ужин и тут же усадили играть. Спать мы легли много за полночь, уже занимался декабрьский рассвет.
Вежливость — изобретенье дьявола. Я рухнул на постель, не раздеваясь. Может, поэтому сновиденья мои были так беспокойны. Я находился в странном большом городе с множеством машин и разноцветных огней. Здесь происходило какое-то архаическое торжество, на женщинах были белые меха и невероятные украшения. То ли это заседал суд, однако судья был один, без заседателей, гигант, выносивший приговор именем Geigerkonig'a, пользуясь жестами, пальцы его стремительно бегали по большому черному инструменту. В силу какого-то немецкого каламбура его именовали Herr Richter — Господин Судья. Рихтер, Рихтер? Это имя о чем-то говорит мне. Бетти на днях громко порицала меня за невежество: как, вы не читали Рихтера! У нас во Франции принято называть его Жан-Поль,[32] да и книги его не так-то легко найти… этого анти-Гёте у нас не издают в Taschen-Ausgabe. И, как выражается этот писатель, в такой ничтожной степени проникший за границу, мое чтение не более чем die wichtigsten Excremente des Zufalls — в основном экскременты случая, или еще, что стен моих лишь коснулась эта Salpeter des Merkwiirdigen… эта селитра замечательного… Но, Рихтер за Рихтера, судьба всех, сидевших в зале, зависела от того, кто неистовствовал на эстраде, за что и было заплачено, за этот приговор абсолютного слуха, их судьба зависела от магических звуков, исторгаемых этим дьявольским судьей из клавиатуры, столь стремительно скалившей зубы, что некогда было подумать. О, бесконечные фразы грез! Военфельдшер Арагон сидел в ложе передо мной с женщиной, которую называл Мюрмюр… глуховат, должно быть, не слышит, что повышает вдруг голос. Я хотел с ним поговорить и не мог, несмотря на огромную силу нравственных чувств, заключенную во мне, не мог раскрыть рот, а когда все же, благодаря этой огромной силе, мне удалось с этим совладать, с губ моих не сорвалось ни единого звука. Словно в немом кино.
В глубине зала кто-то внезапно поднялся с криком: «Маски, маски!» Я вертел головой во все стороны, но не видел, откуда они выходят, и мною владел такой страх перед ними, что я открыл глаза.
Было уже совсем светло. Улица ожила, что-то насвистывая, мимо проходили солдаты. Господи! Уже почти одиннадцать. Мне принесли горячей воды, и я торопливо умылся. Поздновато, чтобы являться в штаб с докладом. Капитан Манжматен не преминул мне это заметить, но на уме у него явно было что-то другое. Не без удовольствия, с издевкой он сказал:
— Ну, Удри, мой мальчик… обошли вас? С глаз долой — из сердца вон… Да уж, достались вам эти марокканцы!
Что все это значило? Дежурный лейтенант ухмылялся. Должно быть, они уже успели посудачить между собой.
— Да, — продолжал капитан, — пока вы спали допоздна… я, не мое, конечно, дело, но просто в глаза бросается! Я как раз только пришел. Тут еще лекарь заявился, устроил целую историю по поводу помещения, которое ему дают, точнее, не дают для его «радикулитных с температурой» и всякой прочей заразы. Да хоть его спросите, он тоже видел, как и я. В окно. Вы знаете, отсюда вид прямо на комнату вашей Дульсинеи…
— Господин капитан, мадемуазель Книпперле…
— Пожалуйста, можете называть ее, как вам нравится! Я выглянул наружу, на улице застрял в грязи грузовик, рядом с катком, потом поворачиваюсь — и что же я вижу… уж когда такое на людях! Я ведь не нарочно. Так вот, ваша барышня стояла в дверях, каждый мог видеть и слышать, на второй ступеньке крыльца…
Он поглаживал снизу вверх свои усы. Томил меня. Лейтенант хлопал себя по ляжкам.
— Так что же? — спросил я. Очень сухо. Пусть скажет и заткнется.
Он почувствовал, что дело может обернуться плохо, какой он там ни капитан. Но слишком уж соблазнительная была ситуация.
Он слегка прокашлялся, поглядел на свои ногти, точно после маникюра. Разжал пальцы:
— Так вот, они стояли у всех на виду, на крыльце, она на верхней ступеньке, он на нижней… да, я совсем забыл сказать… американский солдат… пальчики оближешь… Так-то. Мало быстро взять старт, нужно еще добежать первым…
Я ничего не сказал. Расписался в книге под своим кратким донесением. Наступила тишина. Оба офицера смотрели на меня.
Отсутствие реакции, легкое пожатие плеч внушало им уважение ко мне.
— Хороший игрок… — сказал Макжматен.
Я сделал вид, будто не слышу. Главное, не выказать торопливости. Чересчур уж много удовольствия я им доставлю, если прямо отсюда пойду к Бетти. Американец. Мне тут же припомнилась песенка Габи Дели, она вывезла ее из США, понятно… Всплывали какие-то слова из наших разговоров, своего рода подтекст, и почему это я выбрал из всех ее имен именно Бетти… И она еще назвала меня лгунишкой из-за того, что я скрыл от нее всю эту дурацкую историю на дороге, вечером, и Лени. Я не мог больше выдержать. Пусть себе Манжматен думает, что хочет!
Бетти открыла не сразу. Была ли она одна? Похоже, что да.
Уж не выпустила ли она его через черный ход. Miitterchen, конечно, была в сговоре. Дверь отворилась.
— А. это вы, Пьер? Входите.
Ну, раз она приглашает. Я сразу заметил, что она взволнована.
Она подкрасила губы, прежде чем открыть дверь. Я видел ее грудь. Мы молчали. Я явился как человек, который собирается устроить скандал Я вошел с готовым вопросом на губах: Ну, что это еще за американец? Но не выговорил его. Она посмотрела на меня. Она решилась первой:
— Вы вернулись? Когда? Да что с вами, вы дрожите?
— А вы, вы не дрожите?
Она дрожала, поняв это, она улыбнулась бледной улыбкой.
— Я? — сказала она. — У меня есть основания…
— Ах так?
Молчание возобновилось, как возобновляется шум. Нестерпимый шум. Капающий кран. Нади не тянуть. Сказать немедленно, сразу, сказать то, чего я никогда еще не говорил ей. Снять запрет. В конце концов, этот американец. Ведь детей во рту не делают. Я просто скажу ей, Беттина… она заметит, что я уже не называю ее Бетти. Итак, Беттина, я давно должен был вам сказать, я вас… ну, в общем, выбор тут не большой, французский язык беден. Или еще короче, с места в карьер, чего размусоливать: Беттина, хотите быть моей женой? Это я-то, считавший, что к таким словам нужно подходить издалека, подбираться малопомалу. Я действительно сказал:
— Беттина… — и на этом остановился.
Она не дала мне времени для дальнейшего, крепко стиснув меня в своих объятиях, она говорила мне на ухо: