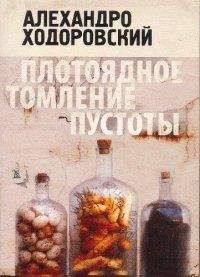Дно долины влажно поблескивает, но это уже не грунтовые воды.
Мне показывают то, на что не надо смотреть, — проступивший из земли пот промзоны. Сокровенная влага челябы, впитавшая копоть, окалину, мазут, впитавшая остановившееся здесь время, остановившиеся жизни людей, ставших сырьем оборонной промышленности.
По мере нашего движения сквозь эту зону там, внизу, в долине, что-то происходит — дно ее начинает менять цвет. В серовато-желтом влажном поблескивании жижи появляется как бы зеленца, долина зарастает травой и мелким кустарником, но листва там бледно-зеленая, с белесоватым рыжим оттенком. И этот цвет листьев и травы не от пыли, осевшей сверху. Этот цвет дают соки самой земли. Соки челябы.
Я вижу цвет надорвавшейся земли.
И вот тут я чувствую, как автобус наш прибавляет скорость, как бы освободившись от какой-то тяжести. Мы выбрались на шоссе. За окном справа и слева лес. И зелень его постепенно набирает чистый цвет майской листвы.
Автобус тормозит. За деревьями у обочины — поле, в поле — свежерубленые дома дачного поселка. Люди из автобуса начинают выходить, и тесный надсадный автобус превращается в просторный, легкий и стремительный «пазик» с одним пассажиром — мною. В освободившемся окне впереди — стрела шоссе, похожая на аллею, она упирается в двухэтажное здание аэропорта.
И вот уже я иду по гладкому серому пластику пола в зале вылетов — помещении неимоверной чистоты и элегантности. Регистрация еще не закончилась, я встаю в очередь. А еще через полчаса усаживаюсь в кресло перед стеклянной стеной, установив на соседнем кресле пластмассовый стаканчик, в который аэропортовский автомат налил 150 граммов прекрасно сваренного эспрессо. Передо мною за стеклянной стеной просторное — сначала бетонное, потом травянистое — поле. Над полем такое же бесконечное бледно-голубое небо. Три могучих «Ту-114», помеченных синими и красными полосками компании «Уральские авиалинии», кажутся в этом пейзаже игрушечными.
…Самолет давно в воздухе, я сижу у иллюминатора. Мир за окном чист и холоден. Внизу снежные поля и ледяные торосы облаков. Сверху пустая синева. Ровный гул моторов.
Я пытаюсь сосредоточиться, чтобы выбрать ту деталь, которая бы связала увиденное мною в Челябинске в образ. Это оказывается просто. Я закрываю глаза и вижу то, что отложилось помимо сознания на глазном дне, — металлическую решетку у сквера на проспекте Революции.
Металлическое литье — вот что сопровождает человека в Челябинске везде. Неожиданно элегантные решетки газонов и подземных переходов. Черные фигурки Скупого рыцаря, купцов Островского, барышень из чеховских пьес на фасаде театра драмы. Литые олени на школе номер один. Памятники Ленину и памятник Орленку. Литой Горький перед Педагогическим университетом. Театральная массовка на Кировке. Каслинское литье в сувенирных магазинах.
И я вспомнил странное чувство, которое испытал, когда во время экскурсии по проспекту Ленина перевел взгляд с черного монумента Ленина на фигуру металлического городового при входе на Кировку. По смысловому наполнению жесты разные, но было в этих артефактах что-то роднившее их. Присутствующее поверх намерений скульпторов. И здесь не просто оттенок хвастовства человека своей силой, своим могуществом: «Могу из металла — и городового, и Ленина, и солоночку с филином! Могу!» Здесь было нечто, от чего пробирал холодок.
Это вот что: человек, получивший из рук Создателя камень как воплощение крепости и твердости, воплощение вечности и неизменности, сам научился создавать (точнее, пересоздавать из камня) свое воплощение крепости и твердости — металл.
Неизбежный и в данном контексте жутковатый вопрос: что означает жест Создателя, допустившего человека к этому акту пересоздания своего творения? Не знаю. Но трудно избавиться от ощущения присутствующей в этом Его жесте недоуменной растерянности.
В исполнении безукоризненного замысла Создателя — явленного нам мира, во всей его бесконечности и всем разнообразии, в неимоверной просчитанности и присутствии абсолютного порядка даже в «беспорядке», во всей его гармонии — от движения звезд до моргания вылезшей из воды на лист кувшинки лягушки, — в исполнении великого замысла оказался сбой. Прореха. Прореха чудовищная — человек. Наделив его земной плотью, зачем-то Он дал человеку еще и разум. То есть сделал его существом инородным для земной жизни, чужим для самого его, человека, тела. Дав разум, Он наделил человека ужасом осознания своей конечности. В природе смерти нет. Бабочка, живущая день, не знает этого, и это значит, что живет она вечно. И мертвое дерево на самом деле не мертвое, а гнилое, передающее свою жизнь дальше. И лес, который в конце каждой осени застывает, заледеневает на зиму деревянным скелетом, весной снова юн и зелен. Смерть в этом мире — только для человека. Осознание этого заставляет человека напрягаться в попытках избежать неизбежного, обрести свою Силу, свое Могущество. И усилие это чем дольше длится, тем дальше отодвигает человека от собственно жизни. Зрелище жуткое.
И вот тут поспешно, как бы смутившись своей оплошности, Создатель попытался уравновесить эту дисгармонию — Он дал человеку часть своих сил. (Или это была форма наказания? Но нет, вряд ли — так наказывать можно разве что соперника.)
Что такое вот эти гигантские ангары литейных цехов? С их громом, огнем, раскаленной лавой, текущей из ковша? С механизмами, по размерам и мощи абсолютно несопоставимыми с возможностями человеческого тела? Что творится здесь на самом деле? По сути, акт пересоздания самой материи, из которой творит Создатель, которая и есть Его «тело» — для нас по крайней мере.
Чей акт? Кто здесь вершит? Не знаю, но уж точно не человек. Цивилизация научила нас членить великую тайну создания на тысячи и тысячи простых и понятных актов и быть уверенными, что смысл этого великого действа равен сумме элементарных актов.
Вот эта слепая уверенность, это безмыслие страшнее всего.
Отсюда путь в никуда.
Проспект Ленина в Челябинске длится и длится, набирая пышность и монументальность в направлении университета, и когда проспект уже как бы обретает максимальные простор и мощь, он вдруг обрывается. Обрывается на самом разбеге, упершись в мемориальный комплекс Курчатова. Дальше ни проспекта, ни города нет.
Курчатовский мемориал представляет две стелы в виде узких плит, поставленных рядом. Точнее, одну плиту, разорванную некой страшной силой на две. Разорванность эта символизируется аляповато, но более чем выразительно выполненными половинками атома. В одной стеле закреплена одна половинка, в другой — другая. В просвете между стелами металлические нитки, протянувшиеся от половинок атома, нити не дотягиваются друг до друга, как бы демонстрируя этим разорванное «силовое поле жизни». И перед этой щелью, перед этой прорехой стоит ее создатель — Курчатов. И его шинель будет покруче, чем у Ленина или Дзержинского. Это даже не шинель, это — мантия. Курчатов поддерживает ее обеими руками. Но при этом он не похож на мальчика, надевшего взрослую одежду. Огромный, с поднятой головой, с квадратной окладистой бородой, Курчатов стоит как языческий (новоязыческий — от науки) бог Новых Времен, отвергнувший все, чем спасалось человечество до него. Он — Тот, Кто Расщепил Саму Материю Жизни.
И потому он завершает проспект Ленина. Здесь финал.
Пятьдесят лет назад, 9 сентября 1957-го, на исходе дня, в тридцати километрах от Челябинска, под городом Кыштымом на реке Теча, в небо поднялось ядерное облако. Облако было красного цвета. Облако светилось. Через несколько часов лес под ним стал красным и желтым, а к утру все листья лежали на земле. Черный голый лес стоял над красной и желтой радиоактивной землей. Сколько умерло людей, мы не знаем. Это было Государственной Тайной, как и сам Курчатов и как его Деяние. Кыштымская трагедия не породила того количества литературы и свидетельских показаний, как чернобыльская. Человечество не содрогнулось, как в 1986-м. Советская цензура оказалась деталью того великого проекта. Ну а потом Курчатову поставили в Челябинске этот монумент, так, как если бы в Хиросиме поставили монумент Оппенгеймеру.
В финале должно быть что-то гармонизирующее. У меня не получается. Гармонизировать все перечисленное выше — значит сделать вид, что понимаю. Но я не понимаю. Для меня Челябинск в нынешнем его виде — все еще не прочитанный до конца иероглиф «советского». Да, я ненавижу все советское. Признаюсь. Ненавижу и при этом отдаю себе отчет в том, что я абсолютно советский человек. Советский — по ментальности, советский — в каждой непроизвольной реакции. Новорусские времена я встретил сорокалетним, окончательно сложившимся человеком. И то, что я написал здесь про Челябинск, я написал про себя.