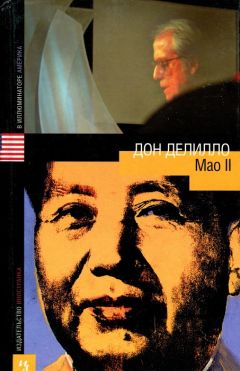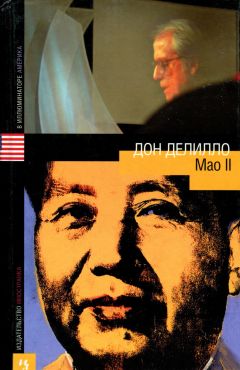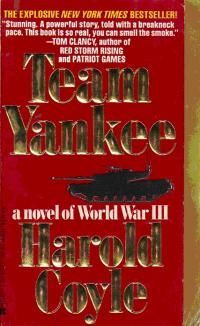Но Билл все работает и работает, вносит правку. Спускаясь по лестнице, они услышали стук его машинки.
Не вставая из-за письменного стола, он выпил кофе с сандвичем. Затем опять начал печатать — и услышал первобытный заунывный стон в недрах своего тела. Вот так это и происходит: первые за день слова включают физическую сигнализацию, заставляют хныкать и отбиваться — живые организмы сопротивляются изнурительной работе. Тут без сигареты не обойдешься, верно я говорю? Он услышал: они спускаются по лестнице. Явственно представил себе, как они стараются не скрипеть, как, втянув головы в плечи, тихо ставят ноги на ступеньки. Лишь бы не потревожить блажного дядюшку в его запертой комнате. Он не знал, когда она уезжает — прямо сейчас, наверное? Подумал, что увидеться с ней вновь было бы крайне неловко. Говорить-то больше не о чем, так? Между ними возникло чувство близости, показавшееся жалким и пошлым, едва она вышла за дверь. Он не мог в точности припомнить, что именно ей сказал, но знал: все не то, сплошное словоблудие, позерство, по большей части искреннее и именно потому совершенно непростительное. Да кто она вообще такая? В ее лице есть сила, окостенелость образа жизни, выбранного раз и навсегда, — то, без чего не пробьешься, мощь, которая давно перебесилась, дала себя укротить; мощь нескрываемая, но с примесью настороженности. Легче легкого — встать из-за своего стола с машинкой, уехать в Нью-Йорк и жить с ней до скончания века в квартире с террасой с видом на парк или на реку, можно на парк и на реку сразу. А тут пялишься в клавиатуру, как в зарешеченное окошко. Раньше бывало: когда начинаешь книгу, на тебя наваливается время, накрывает тебя и придавливает, а потом, когда заканчиваешь, отпускает. А теперь больше не отпускает. Так ведь и он пока не закончил. Жить в большой светлой квартире с кроватью, застеленной простынями из серого льна, читать надушенные журналы. Существует гибкое пространство - время физика-теоретика, время, не замутненное человеческими переживаниями, чистая кривая
природы — и есть время с привидениями, время писателя, время-наперсник, дышащее гнилью в лицо, мрачное, понукающее. Что-то сегодня десны чешутся. Нужно проскользнуть украдкой в спальню, приготовить коктейль из розово-желтых поливитаминов с фтором, а пока давай сосредоточимся на странице, стукнем-ка по буковке, потом по другой. Как хочется отодрать ее до визга, на жесткой постели, и чтобы в окна барабанил дождь. Господи, пожалуйста, дай мне поработать. Взглянем на вещи прямо: каждая книга — это марафон, глаза лопаются от натуги. Дойти до финиша надо непременно. Умирать нельзя. Он ударил по клавишам столько раз, сколько требовалось для завершения фразы, и подумал, что надо бы спуститься с ней попрощаться, но выйдет только конфуз для обоих. Она же получила то, за чем приезжала, так? Теперь я — картинка, плоская, как отутюженная коровья лепешка. Он заметил, что сделал ошибку — поменял две соседние буквы местами. Последнее время такое случалось с ним часто, еще один признак прогрессирующей опухоли мозга; он вытащил лист из машинки и замазал опечатку. Пришлось ждать, пока подсохнет. Как он себя наказывает за постоянные опечатки — вечно пальцы тычутся не в те клавиши; как ошибки повергают в отчаяние, нелепицы доводят до форменного бешенства; и он уставился на подсыхающее белое пятно и сидел сложа руки, пока оно не сделалось неразличимым, — тем самым он одновременно наказал себя и увильнул от кары. Ее рука на его щеке… как он удивился, что на него так подействовал этот жест, в одном прикосновении — все сразу. Хочу жить как другие, уплетать в тратториях близ парка трехцветные макароны. Вечно замазываю и впечатываю поверх. Он взглянул на фразу, шесть понурых слов, и увидел весь роман, каким он порой ему представлялся, — ковыляющего по дому кастрированного недочеловека, горбуна-гидроцефала со сморщенными губами и нежной кожей, со струйкой слюны, постоянно текущей из уголка рта. Столько лет потребовалось, чтобы понять: роман — его ненавистный личный враг. Запертый вместе с ним в потайной комнате, схвативший его за горло. Он задумался о невероятной сложности операции по замене ленты. Столько точек над "i", столько "alter" и "ego". Почувствовал: грядет, и действительно чихнул на страницу, чихнул от души, отметил, что выделения с кровяными прожилками, но зато жидкие и скудные. Он не удостоит их гордого имени "сопли". Ей нравится моя злость. Жить в центре кубистского города, воскресные газеты разбросаны по всему дому, румяные булочки на тарелке. Была у него присказка: сейчас, пока у меня междукнижие, и умереть не жалко. В том-то и была беда со второй супругой… Ну да не важно. Жить в двух шагах от галерей и музеев, стоять в очереди за билетами в кино, делать ремонт, спать на простынях из серого льна, откупоривать вино, любить ее, заказывать на дом пиццу, давай сегодня закажем пиццу, выгуливать собак, говорить слова, слышать, как швейцары высвистывают такси и дождь барабанит по окнам.
Брита собрала вещи. Готова стартовать тотчас. Спустилась на первый этаж, налила себе кофе. Села за стол, окинула взглядом кухню. Тут вошла молодая женщина, тихо обронила:
— Привет.
Наклонилась, упираясь рукой в стол, медленно оторвав от пола левую ступню. Волосы у нее были длинные, прямые, светло-каштановые; нижняя челюсть, слегка выступающая вперед, придавала лицу суровое выражение.
— Сколько снимков вы сделали?
— Мы немного поговорили и поработали, потом, когда темы для разговора иссякли, я отсняла еще несколько пленок, а потом еще несколько.
— По вашим меркам, это типичный съемочный день или срыв в жуткую расточительность?
— Как вас зовут?
— Карен.
— И вы здесь живете.
— Я и Скотт.
— Карен, скажу вам правду. Фотография меня не интересует. Меня интересуют писатели.
— Тогда сидели бы дома и читали.
Она взяла с полки непочатую упаковку миникексов и поставила ее рядом с чашкой Бриты. Потом свернулась калачиком в кресле, вертя так и сяк попавшуюся под руку ложку. Джинсы, застиранная блузка, фигура девочки-подростка — сплошные шероховатости, заусеницы, острые углы. И тем не менее — дар сливаться с мебелью, податливая мягкость пушистого пледа.
Брита сказала:
— Я читаю дома, читаю в отелях, я беру с собой книжку, отправляясь к зубному. Двадцать минут в метро, а потом усаживаюсь в приемной и опять читаю.
— Вы всегда знали, что станете фотографом?
— Я читаю в самолетах, читаю в прачечной - автомате. Сколько вам лет?
— Двадцать четыре.
— И вы здесь ведете хозяйство.
— Почти все лежит на Скотте. Он следит за денежными поступлениями и записывает расходы, разбирается с налогами и коммунальными услугами, отвечает всем, кто пишет Биллу, за исключением психов — их мы холодно игнорируем, чтобы зря не обнадеживать. Готовкой и покупками мы ведаем вместе, хотя большую часть, наверно, делает он. Он сам занимается всеми архивами, классификацией бумаг. Мое дело — мыть и подметать. Я скромная уборщица, что меня совершенно не смущает. Изображаю из себя толстуху, хожу вперевалочку со шваброй. Машинописные работы мы распределили поровну, но окончательный, чистовой из чистовых экземпляр печатает Скотт, а потом мы вместе вычитываем текст, и это, наверно, наш самый любимый этап.
— И вы считаете, что затея с фотографиями — ошибка.
— Мы любим Билла, вот и все.
— А меня вы ненавидите за то, что я уеду отсюда со всеми этими пленками.
— Просто есть ощущение сбоя. У нас здесь такая жизнь… тщательно сбалансированная. За распорядком Билла стоит много всего, что планируется и продумывается, — и тут вдруг трещина. Как это называется, разлом?
К дому подъехала машина, открылась и захлопнулась дверь. Карен вновь и вновь нажимала на ложку указательным пальцем, заставляя ее черенок качаться.
— Как вы думаете, женщинам свободной профессии стоит выходить замуж? — спросила она.
— Я давно в разводе. Он живет в Бельгии. Мы больше не общаемся.
— У вас есть дети, которые после развода до сих пор чувствуют себя деревьями, вырванными с корнем, и, встречаясь, все нервно переминаются с ноги на ногу, и вы замечаете, что в их глазах, несмотря на прошедшие годы, глубоко-глубоко затаилась обида?
— Увы, нет.
— У меня было не так много знакомых, которые бы серьезно занимались своей карьерой. Профессиональный рост. Звучит очень солидно. У вас в холодильнике всегда стоит бутылка водки?
— Да.
— Люди вам говорят, что им нравятся ваши работы? Они подходят к вам в Нью-Йорке на вечеринках и говорят: "Я просто хотел бы вам сказать". Или: "Вы меня не знаете, но я просто хотел…" Или: "Мне обязательно нужно вам кое-что сказать, прошу прощения за беспокойство". Тогда вы смотрите на них и улыбаетесь как бы застенчиво.
Вошел Скотт с продуктами. Налил себе кофе и завершил рассказ о том, как выбрался из страны небытия. Как начал писать Биллу письма на адрес издательства. Настрочил штук девять или десять, полных амбиций и самоедства, всего того, что незадачливый молокосос может сообщить автору книг, которые его потрясли. Прежде Скотт и не подозревал, что способен так растормошить свою душу, разбередить в ней глубокие переживания, упоенно выразить их с дерзким блеском, печатая некие слова вселенского масштаба в верхнем регистре, а другие уснащая несусветными орфографическими ошибками, чтобы обнажалось их второе и даже третье значение. Письма дали выход его чувствам. Возможно, то было ощущение, что мир не пустыня, а он сам больше не одинок, ведь с другими путешественниками по словесным дебрям его объединяют общие знания. Как он наконец получил от Билла письмо, две строчки, наспех нацарапанные от руки: дескать, вечно нет времени отвечать людям по-человечески, но спасибо, что написали. Как окрыленный, Скотт накатал еще пять писем, страстных, обо всем сразу, а в последнем известил, что отправляется искать Билла, что должен его увидеть, познакомиться, поговорить, что жажда найти человека, написавшего такие книги, неудержима. Как Билл не ответил. И как Скотта это подбодрило, ведь Билл запросто мог бы написать: не смей, отвяжись от меня, даже на милю не приближайся. Скотт располагал конвертом, в котором пришла записка Билла, штемпель был нью-йоркский, но Скотт случайно узнал из журнальной статьи "Писатели, пропавшие без вести", что свое место жительства Билл скрывает, пересылает почту через издательство.