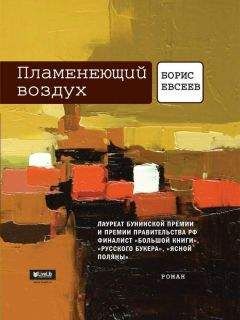Однако залить уши свинцовой глухотой всем питерцам, заткнуть рты влекущимся с юго-востока до смерти напуганным помещикам было невозможно. Тем паче, что в ноябре все того же 1773 года Петр-Емелька нанес-таки правительственным войскам под городом Оренбургом тяжкое поражение.
Вслед за этим поражением последовали еще худшие: Пугачев взял Яицкий городок, взял Магнитную крепость, подступил весной 74-го под Казань…
Как раз между взятием Емелькой Казани, случившимся в июне, и поражением его под Царицыном, произошедшим в августе, — Петербург о дальнейшей своей судьбе и задумался.
Низшие сословия стали подлыми своими устами вопрошать: а не есть ли казак станицы Зимовейской и впрямь Петр Третий? Чудом воскресший? На Дону прятавшийся? Опальные царедворцы задумались о другом: а не худо ли управляет своими подданными принцесса Ангальт-Цербстская? Каковая и принцесса-то, по слухам, лишь наполовину, а на самом деле и всего-то — дочь Ваньки Бецкова! Того самого Ваньки, у коего от не полагающейся ему, незаконнорожденному, фамилии Трубецкой с хрустом и свистом откушен первый слог! Так не послать ли гонца в оренбургские степи повыведать что к чему? Не переговорить ли с кем надо и в иных местах, в той же самой Европе?
Сии настроения большинству царедворцев и военачальников были, конечно, чужды. Хмурились Орловы. Сдержанно улыбался забирающий в последние годы неслыханную власть Потемкин. Александр Васильевич Суворов хмыкал, называл Емельку дурнем. А только что произведенный в офицеры Гаврила Державин до крови кусал пухлую татарскую губу: от обиды за государыню. Да еще верные императрице люди то тихо, а то в голос проклинали Филарета, игумена старообрядческого скита из саратовской Мечетной слободы, каковой Филарет мысль принять имя Петра Третьего Емельке и подал.
Негодовал и Бецкой.
Все могло сложиться иначе, когда б слушали его, споспешника воцарения и опору престола, его, имеющего и к новому царствию, и ко всему происходящему в империи отношение самое близкое, самое тесное!
Слушали, однако, недоумков и выскочек.
Иван Иванович Бецкой, Президент Академии художеств и кавалер, за истекшие семь лет сильно постарел. Не то чтобы безвозвратно, но все ж весьма заметно. Правда, в зеркальце глядеть на себя не перестал, об молодых девицах — теперь уж не денно и нощно, но все ж таки частенько — мечтал.
Думал еще вот о чем:
«Все события в Империи — и ныне происходящие, и проистекающие из лет предыдущих — должны быть в памяти потомков закреплены. Непременно! Ежели не в виде арок, так на полотнах, ежели не на полотнах — так в музыке, ежели не в музыке — тогда на сцене. Сему по мере возможности надобно способствовать. А как еще поспособствуешь, коли не изданием новых наказов, распоряжений?»
Один из таких наказов для Академии — не единожды с Катеринхен обсуждавшийся — был таков:
«Мужиков — не видать вовсе! С ними не говорить. Нигде, ни по какому случаю!»
Касался наказ и воспитанников Училища, и учеников Академии. Наказ был строжайший, верховный, исполняли его старательно, иногда даже со страстью.
В отсутствие мужиков и хамства в особом почете были просвещение ума и чувствительность. Иногда — душещипательность. Выходя из классов, рослые мадамы всегда что-нибудь роняли. Платок, клякспапир, прочее. Требовалось: поднять, подать, расшаркаться.
От дам не отставали и кавалеры. Особенно иноземцы. Кашляя и сипя от табаку, немея лицом от тяжко-хмельного русского вина — они требовали открытого преклонения и тайной любви.
Платки Евстигнеюшка подавал наравне с другими. Когда надо расшаркивался, когда надо восхищался. Но при всем при том — как-то жался, сутулился.
Такая за ним и укрепилась слава: вполне благонравен, однако куды как неловок.
Ловкость и обтертость были в почете особом.
Для лучшего обтесу и смягчения нравов были введены посещения других учебных заведений. К примеру, «Воспитательного общества благородных девиц», располагавшегося в бывшем Смольном монастыре. Впрочем, монастырского в благородных девицах было не так уж много: воспитывали на новый лад. Смолянки были милы, но горды. Звали одна другую «кофушками» (за форменные платьица кофейного цвету), гостям улыбались, но говорили с ними мало.
Здесь, в Смольном монастыре, уже кое-кем звавшимся «Смольным институтом», на одном из музыкальных утр услыхал Евстигнеюшка имя. Имя необыкновенное, пленительное.
— Алымушка! — позвал кто-то ласково, но и властно.
Юное угловато-прекрасное создание отделилось от созданий других (таких же юных, но не столь прекрасных) и, шурша кофушечным платьем, — скорей, скорей, к выходу из залы!
Евстигней оглянулся: на выходе, раскрыв руки словно бы для объятий, стоял статный, величественный, в синем камзоле и со звездой, Президент Академии художеств господин Бецкой. Глаза Его Высокопревосходительства — что замечалось даже издали — были увлажнены. Губы слегка вздрагивали.
Наблюдать дальнейшее Евстигней не осмелился. Однако Алымушку запомнил крепко.
История Алымушки была душевна, поучительна. В развитии той истории с жаром — как в той театральной драме — участвовала сама государыня императрица.
Сие чарующее: «Алымушка!» — государыня первой и вымолвила.
Девятнадцатый ребенок в семье полковника Алымова, юная Глафира Ивановна была создание обворожительное. Отданная матерью — родившей дочь в день смерти мужа и оттого Алымушку недолюбливавшей — с глаз долой, в Воспитательное общество, и впервые оказавшись при дворе в шестилетнем возрасте, она смугловатой своей мордашкой, ласковостью обхождения и безысходностью судьбы обратила на себя внимание лиц могущественных.
Поначалу Иван Иванович Бецкой, как и все, Алымушкой лишь восхищался. Затем (весьма опрометчиво) несколько раз назвал ее «дочуркой».
Однако с течением времени возымелись им к Алымушке чувства иные!
Зная ее с младых ногтей, помня ее первые несмелые шаги, часто взглядывая на картину, рисованную неким выпавшим из памяти живописцем, где была Алымушка изображена рядом с некой высокородной девицей, — Иван Иванович трепетал сердцем и разумом тихо немел.
Причем сего онемения замечать за собой не хотел.
Пока Алымушку лелеяли и холили, пока сама Катеринхен трепала ее по щечке — он еще пытался сдерживаться, пытался относиться к подрастающей девице ровно, спокойно. Но вскоре как с цепи сорвался: Алымушка входила в возраст, хорошела, скрывать страсть стало невозможно.
Когда Катеринхен, не весьма довольная уровнем обучения в «Воспитательным училище для благородных девиц», решила выписать для Алымушки учителей особых, Иван Иванович воспротивился. Про себя же решил: настал удобный момент! И сам вызвался (безо всяких мадам и мусью) быть учителем «девчурки».
Так Алымушка — изредка, полузаметно — стала являться в стенах Академии художеств. Впрочем, на людях сия странная пара — воспитатель и воспитанница — показывались мало. Алымушка сему стойко противилась.
Сперва она в обществе Бецкого вообще дичилась, никла. Затем приноровилась. А со временем, приметив за Иван Иванычем вовсе не отцовские чувства, стала ими потихоньку пользоваться, управлять.
Чуя растущее неодобрение своей поздней страсти — не одобрял двор, не одобряли профессора Академии, — Иван Иванович уповал теперь на одну лишь Катеринхен. Но та хмурилась и выказывать по сему случаю восхищенья явно не собиралась.
«А ведь могла бы! У самой — рыльце в пушку! Сама грешит и другим грешить дозволяет! Другим — но не мне, самому близкому… самому…»
Страсть приходилось загонять в угол, уродовать, сжимать в кулак. Вместо будущей честной женитьбы обстоятельства заставляли думать о способах иных (весьма, кстати, привычных): следовало тайно приохотить Алымушку к своей постели, затем половчей выдать замуж, а затем уже приохотить заново, надолго...
Шелест платья, подол, рукав. Запах одежды, вздох, смешок… Вот и все, что в быстром мелькании удавалось увидать и услыхать Евстигнею во время таинственных приездов Алымушки.
Однако ж — изловчился. Разок-другой подстерег ее.
Увидав Алымушку близко — был ошеломлен навек. Что с тем ошеломлением делать и куда его упрятать — а прятать было необходимо, — не знал. Не то что взаимности, даже обстоятельного разговора с полковничьей дочерью ожидать не смел. (Про то, чья Алымушка дочь, было выведано у академического дядьки, у вдумчивого соглядатая Нафтолия Портнова.)
И всего бы лучше, когда б Алымушка не замечала его вовсе. Еще лучше — презирала. Но не тут-то было! Кто-то, словно невидимыми нитями, пытался приметать Евстигнея к Алымушке: при случайных встречах она улыбалась ему ласковей, чем иным прочим, краснела больше, головку темно-русую клонила долу медленней.