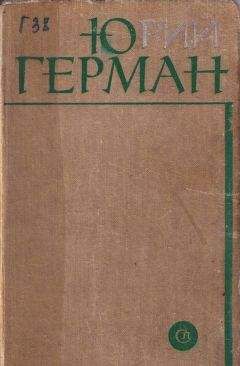— Еще? — подлизывающимся голосом спросил он.
— Будет, — сказал Жмакин и лег на кровать, подложив руки под голову.
Тогда Женька стал играть сам с собою. Он сопел и хмурился. Его волосы золотились на солнце.
— Женя, — спросил Жмакин, — а где Клавдя работает?
— На «Красной заре», — сказал Женька, — на заре. И на заре и на… — Он помолчал. — На Красной заре и на Красной заре, на Красной заре и на Красной заре, — лихорадочно быстро забормотал он, — на Красной заре…
— А как же ребенок?
— Что?
— Я спрашиваю — ребенок как?
— Какой ребенок?
Жмакин отвернулся к стене. Женька ничего не понимал. Он все еще бормотал про Красную зарю. Потом пришла Клавдя. Жмакин спустился вниз. Корчмаренко, старуха и Клавдя — все втроем — раздевали девочку. Корчмаренко держал ее под мышками, Клавдя снимала малиновые рейтузы, а старуха возилась с туфлями. Девочка не двигалась — красная, большеглазая, строгая, только зрачки ее напряженно и смешно оглядывали всю эту суету.
— Какова невеста, — крикнул Корчмаренко, завидев Жмакина, — видел таких? Буся, буся, бабуся! — бессмысленно и нежно заворковал он, прижимаясь к внучке бородатым лицом, — у-ту-ту, у-тутушеньки…
— Папаша, не орите ей в ухо, — строго сказала Клавдя, — опять напугаете.
Девочку раздели, и она, переваливаясь с боку на бок, мелкими, аккуратными шажками пошла вон из комнаты.
— У-ту-ту, у-тутушеньки, — вдруг крикнул Корчмаренко и сделал такой вид, что сейчас прыгнет.
— Папаша! — строго сказала Клавдя. Она, с улыбкою глядя на семенящую дочь, шла за ней — несла ее верхнее платье.
— Большая, — сказал Жмакин.
— А чего ж, — ответила Клавдя.
— На вас похожа?
— Вся в отца, — сказал Корчмаренко, — такой же бандит будет.
Они вышли в переднюю за девочкой.
— Долго ж вы спите, — сказала Клавдя, по-прежнему следя за дочерью, — я думала, до вечера не проснетесь.
— А чего ж, — передразнивая Клавдю, усмехнулся Жмакин.
Она коротко взглянула на него и тотчас же вся покраснела.
— Может, в шахматы сыграем? — предложил Корчмаренко.
Жмакин отказался. Он немного поболтал со старухой в кухне, дожидаясь, когда выйдет Клавдя. Но она как нарочно долго не выходила; было слышно тоненькое пение — она пела дочке и не выходила ни в переднюю, ни в кухню. Он постоял в передней, потом сразу вошел к ней в маленькую, тепло натопленную комнату. Клавдя с дочкой сидели на полу, на коврике, возле избы, выстроенной из кубиков. В избе был слон — голова его с блестящими бусинками-глазами торчала в окошке, у хобота был насыпан овес.
— Заходите, заходите, — сказала Клавдя, опять краснея и стараясь закрыть юбкой ноги, — мы здесь дом построили.
— Клавдя, — сказал Жмакин, — поедем сегодня в город, в театр.
Она молчала, потом осторожно отвернулась.
— Не хочешь? — спросил он.
— Почему, — сказала она, — только в какой театр?
— В любой.
— У вас билетов еще нет?
— Купим, — сказал он, — в чем дело! Пара пустяков.
Он стоял, не зная, что делать в этой маленькой, ярко освещенной и тепло натопленной комнатке. Даже руки ему было некуда девать. Девочка смотрела на него серьезными круглыми глазами.
— Как тебя зовут? — спросил он, садясь на корточки и разглядывая ребенка так же, как разглядывал бы мышь или ящерицу.
— Мусей ее зовут, — сказала мать…
Жмакину показалось, что он уже достаточно поговорил с девочкой; он поднялся и спросил, не пора ли уже собираться. Сговорились, что он будет ждать Клавдю на станции; вместе выходить не стоило — Корчмаренко задразнил бы потом.
— Он привяжется, так не спасешься, — сказала Клавдя, не глядя на Жмакина, — засмеет до смерти.
— Ну да, — сказал Жмакин, чтобы хоть не молчать.
Она погладила дочку по голове, потом спросила:
— Вас звать Лешей, а в паспорте написано Николай. Почему это?
— С детства Лешей звали, — спокойно сказал он, — сам не знаю почему.
Она все гладила дочку по голове.
— Ну ладно, идите, — наконец сказала она, — уже время собираться.
— Да, время.
Он побрился у себя в комнате, пригладил волосы перед зеркалом и ушел на станцию. Уже звезды проступали, все было тихо вокруг, все присмирело, только снег едва поскрипывал под ногами.
Жмакин шел, потряхивая головою, чтобы не думать ни о чем. А вдруг он встретит Лапшина в театре? Или Окошкина? И, усмехаясь, он представлял себе, как все это будет выглядеть в глазах Клавди. Но ему совсем не хотелось усмехаться. Он вздохнул, сплюнул. В калитке показалась кошка, видимо, хотела перебежать дорогу. Он крикнул на нее, хлопнул в ладоши и побежал вперед сам, чтобы она не успела, потом оглянулся и обругал ее, уже сам стыдясь позорного своего поведения: К тому же кошка была с белыми пятнами, так что и беспокоиться не стоило. «Чем кончится вся эта волынка, — думал он, покуривая, на станции, — когда она кончится?» Уже зажигались в домах огни. Тихо, мерно, уютно гудели в морозном воздухе провода. Он приложился ухом к телеграфному столбу, как делывал в детстве, — гудение усилилось, стало мощным, вибрирующим. «Эх, ты, Жмакин, Жмакин, — с тоскою и злобой думал он, — пропала к черту твоя жизнь, расстреляют, отправят пастись на луну. Сегодня еще переночую и завтра переночую, а послезавтра уже надо уходить, иначе возьмут. А может, не возьмут? Нет, возьмут, обязательно возьмут. И Лапшин спросит: — Ну что, брат, почудил?»
Он сжал кулаки в карманах пальто и оглянулся, — на мгновение показалось, что они уже приближаются, что они сейчас возьмут, сию секунду! Но их не было, по перрону шла Клавдя в белом беретике, в шубе с маленьким воротничком, в постукивающих ботах. От растерянности он пожал ее руку. Поезд, лязгая замерзшими буферами, остановился. Они влезли в вагон, набитый до отказа. Клавдю прижали к Жмакину. Он обнял ее одной рукою, она робко взглянула на него, но ничего не сказала. Их слегка покачивало, свечи едва мерцали в грязных фонарях, пахло военными шинелями, духами, пивом, вагоном. Жмакин поглядел на нее сверху — она точно бы дремала.
— Клавдя! — негромко позвал он.
Она опять робко на него поглядела и медленно улыбнулась. «А что, если ей все сказать, — подумал он, — сказать как, почему? И со слезой? Пожалобнее».
— В какой же театр поедем? — спросила она.
— В любой, — сказал он с таинственной интонацией в голосе, — в какой хочешь.
— Ах ты, Леша-Николай, — ответила она и сильно, с ловкостью высвободилась из его руки. Выражение ее лица было по-прежнему робким.
Нужно еще было придумать, в какой театр пойти. Он не знал театров, а у Клавди спрашивать, казалось, не следовало.
В Мюзик-холле уже не было мест. Театрик в «Пассаже» показался им обоим скучным, а Жмакину очень хотелось, чтобы это их посещение театра оказалось праздничным и как можно более шикарным.
Возле «Пассажа» на улице Ракова они постояли, подумали. Клавдя улыбалась. Жмакин хмурился.
В Михайловском тоже не было билетов, Жмакин долго приставал к кассирше и лгал, что приезжий, но кассирша даже не слушала, пила в своем окошечке чай и разговаривала по телефону. Клавдя все улыбалась, глядя на Жмакина.
У бывшей Думы Жмакин нанял такси, и они поехали в Мариинский театр. Клавдя сидела в уголочке, глаза ее непонятно блестели. Жмакин подвинулся к ней совсем близко и со зла обнял ее тем привычным жестом, которым обнимал уже многих девок в своей жизни. Она ничего не сказала, отодвигаться ей было некуда, — единственное, что она могла сделать, это дать ему по морде, но она этого не делала. Свободной рукой он погладил ее по колену и немного выше — там, где кончается чулок. Юбка была из тонкой шерсти, и он ясно чувствовал конец чулка, потом гладкую кожу, потом резинку трусиков.
— Пусти-ка, — сказала она.
Он с трудом оторвал руку от ее колена, она что-то поправила, резинка щелкнула, и такси сразу остановилось. Это был Мариинский театр. Расплачиваясь с шофером, он внезапно вспомнил, что здесь года четыре назад брал в угловом доме квартиру и что дело оказалось хорошим — легким и удачным. Он посмотрел на дом. Отсюда были видны два угловых окна на третьем этаже.
Он улыбнулся, забыв про Клавдю и про театр. Три шубы взяли, пять костюмов, нажрались шоколаду…
Ах, шоколад мой американский,
А я Гаврюшенька Таганский,
Гаврюшку шлепнули, а я остался.
Не плачь, Гаврюшка, что ты попался.
Жмакин вздохнул, они вошли в театр. Старая женщина в башлыке продавала два билета.
Ах, шоколад мой американский…
— Был у меня товарищ, — сказал он Клавде, — Гаврюшкой звали… Такой деловой парень…
Она молча и деловито снимала шубу, разматывала пуховый платок. Щеки ее были розовы с холоду, глаза блестели, и пахло от нее морозом.
— Ну?