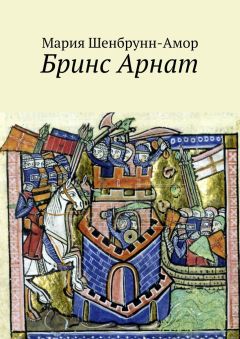— Вы могли поехать вместе! — замечает фру Юнсон — толковая женщина.
— Не могли, — крутит Мартин головой. — Кто-то должен был оставаться.
После того случая… Не хватало нам еще одного пожара! Поссорились.
Мне что было обидно? Я ведь с товарищами сговорился. Не станут же они до завтра меня дожидаться! Раз в кои-то веки захотелось выбраться, посидеть с друзьями… А она тоже имела какие-то свои планы… Но это был единственный раз. За все двенадцать лет.
— Если нет удачи, — пытается, воспользовавшись паузой, господин Юнсон довести до конца свое рассуждение, — то уж ничего не получится. Хоть убейся, хоть что хочешь сделай!..
Я смотрю на экран телевизора, по которому сквозь сказочный лес — как в детских книжках — движутся длинноволосые голубоглазые воины, крепко и прямо восседающие на своих тяжеловесных конях. Каждого из них где-нибудь ждет его Юханна. Неповторимая женщина. Мартин, верно, потому и женился на мне, а не на одной из своих соотечественниц, чтобы не возникло соблазна сравнивать.
— А у нас однажды, — подхватывает эстафету воспоминаний фру Юнсон, — шторм случился. Такой шторм!.. Буря!.. Поселок наш стоял в трех километрах от берега, но и у нас деревья валились, как досточки.
Крыши с домов срывало!
Спасает нас Линда. Ей, видно, не впервой слышать историю со штормом и летающими крышами, и она деликатно напоминает, что им должна позвонить иногородняя бабушка. Фру Юнсон подхватывается и уводит свое семейство. Мартин провожает их до дверей и убеждает заходить почаще.
— Да, дорогая!.. — произносит он, возвращаясь в столовую и без сил валясь в свое любимое кресло. — Один-единственный раз…
Единственный случай… В газетах писали: сто лет не было такого пожара…
Я понимаю: прием гостей, да еще с детьми, — дело нешуточное даже для такого неутомимого человека, как Мартин. Так и задремал в кресле.
Правда, когда я принимаюсь убирать со стола, он тут же привычно вскидывается:
— Нет, нет, дорогая… Иди ложись… Отдыхай. Я сам…
— Ты тоже устал, — вяло сопротивляюсь я. Все-таки жалко его. Да, но, в конце концов, не я это все затеяла. И нужно еще уложить ребят — они в таком возбуждении от всех этих игр. Не так-то просто будет их утихомирить.
Все замечательно, говорю я себе, опускаясь на тахту, в конце концов, не так уж плохо провели время. Юнсоны — вполне симпатичные и, надо полагать, порядочные люди. Куда приятнее иных гордецов… Можно подумать, что я всю жизнь вращалась в светском обществе… В академических кругах… Ничего подобного. Вспомнить только — мои ленинградские сослуживицы… Те еще интеллектуалки! А вышестоящие начальнички? Надутые болваны с партбилетами в кармане. Набитые жиром мешки с двумя подбородками и тремя цитатами из товарища Маркса-Брежнева. А я, между прочим, при встрече почтительно с ними здоровалась. Хоть и невысокая власть, но опасно близкая. Ежедневно ощутимая. Серая мышка должна проскользнуть незаметненько. Чтобы пуговка, не дай бог, не оборвалась. Кивали — величественно. Но отчасти даже и благосклонно. Милые мои Людмилы Аркадьевны и Татьяны Степановны! Акакии Акакиевичи женского пола… Заветная мечта — норковый воротник в рассрочку! Представьте, как повезло товарищу Бадейкиной — ухватила очередь на ковер! Блаженны… Блаженны нищие духом… Нужно будет осведомиться у Паулины, пусть разъяснит, как христианские мужи трактуют это высказывание. Нищие духом — это ведь не те нищие, что стоят на паперти. Это скромные люди, живущие на советскую зарплату. Утомленные бытовыми проблемами женщины, мечтающие об итальянских сапогах. О нечаянном прекрасном кавалере, который возьмет и пригласит в кафе «Север». Блаженны товарищ Бадейкина и Краснопольская…
Что-то вдруг толкает меня изнутри: забыла, не сделала чего-то!..
Любино письмо! Где оно? Нужно встать… Куда я его сунула? Неужели так и осталось на кухне? Мартин обычно откладывает всякие бумажки на полку. Нужно пойти посмотреть. Да, но, с другой стороны, никуда оно до утра не денется. Завтра прочту. А Мартин — вот ведь человек — раб прилежности и аккуратности! Гремит тарелками, наводит порядок.
Сдается мне, посуда могла бы постоять до утра… Но нет, он этого не переживет. Ни за что не допустит… Наверно, и Юханна была такая же рачительная аккуратистка. «Ни единой размолвки»… У нас с ним тоже ни единой размолвки. Даже из-за повозки ни разу не поругались. Мы, правда, не двенадцать лет женаты, всего лишь десять. Как говорится, все еще впереди. Исторический пожар… Величайшее событие всей жизни. Даже более потрясающее, чем смерть Юханны. Женщины, хоть и молодые, время от времени умирают, а пожар — раз в сто лет… Весь лес в двух лендах…
Под Ленинградом у нас лес мрачный, сырой. Сыр-бор… Вряд ли сумел бы столь стремительно воспламениться. Требовалось немалое мастерство, чтобы разжечь нашу общую дореволюционную кухонную плиту.
Вначале подкладывали под тоненько наколотые и в течение недели или двух просыхавшие в коридоре полешки березовую щепу и только потом уже осторожно подсыпали из ведра уголь. Амира Григорьевна, как правило, руководила операцией. Мерзлячка. Вечно ходила закутанная в платок. Зимой хорошо в лесу… Снег и никаких комаров. Мы с Любой идем с саночками за елкой… Рискованная и сложная операция. Но у нас, в случае чего, надежный защитник — дядя Петя. Люба тянет саночки, а я бегу сзади и поддерживаю макушку. Чтобы не обтрепалась о снег…
До чего же громадная квартира! Сколько же семей тут проживает? Нет, не все семейные, есть и одинокие. Макар Девушкин, например. Амира Григорьевна. Кухня — настоящий стадион. От буфета до стола — только Любушка смогла! И этот торт… На деревенских праздниках выставляют такие торты. Не в России, конечно. В России ничего не выставляют.
Кроме самогона и портретов вождей. Торт для Книги Гиннесса. Как только Мартин его дотащил? Снежная баба, гора!.. И главное, как прикажете его резать? Тут не нож, тут пила требуется. Сабля…
Первый кусок Люсеньке — милой моей Люсеньке. Долгожданная гостья!..
Сколько ж это лет мы не виделись? Наконец-то выбралась заглянуть…
А то, понимаете, все дом, работа… Шляются, Люсенька, тут всякие, донимают расспросами: как вам удалось вырваться из России? Надоели.
Какая им разница, как… Молодец, что пришла. А это кто же?
Фринляндкин? И Фринляндкина своего притащила? Умница! Он ведь у тебя гордец, нас, мелкоты, сторонился. Пренебрегал нашим обществом.
Большая честь — познакомиться с блистательным Фринляндкиным, кумиром питерских студентов и вольнодумцев. В основном студенток. Разных педагогических, библиотечных и полиграфических вузов. Люсенька полиграфический кончала. Фринляндкин однажды увидел ее — в кружке любителей русской словесности — и полюбил. Ну, может, не так уж сильно полюбил, однако приветил. За то безмерное обожание, что светилось в ее голубых глазах. Даже стихи ее похвалил…
Интересный тип этот Фринляндкин. То есть не такой уж потрясающе обворожительный, как нам представлялось: довольно даже потрепанный — заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура. Нет, не врубелевский Демон, никак… А это кто?.. Неужели Люсенькины близнецы? Такие огромные, совсем взрослые?!. Впрочем, что ж я удивляюсь — столько лет утекло…
— Дорогая, — хмурится Мартин, — надеюсь, мы получим сегодня компот?
Что за язвительный тон? Как ему не стыдно! Неужели он не видит, что я и так с ног сбилась? Нет, все — в последний раз все эти гости, торты, компоты! Сидят, ухмыляются, языками чешут! Стол — стадион, до кухни — километр, и ни малейшей помощи! Кстати, как их зовут — Люсиных мальчиков?.. Яша и Петя? Да: Яша и Петя. Яша и Петя Голядкины! Почему — Голядкины?..
— Не мог же я дать им фамилию Фринляндкин! — рокочет папаша близнецов. — В этом мире злобы и лжи!
Люсенька опускает глаза — прекрасные свои и вечно испуганные голубые глаза.
— Это мама, — объясняет она тоненьким звенящим голоском, — мама посоветовала нам, чтобы мы записали детей на мою фамилию.
— Да, — подтверждает Фринляндкин глухо, — незачем давать детям, родившимся в России, фамилию Фринляндкин. Это латышская фамилия, а никак не русская.
— Вообще-то, мне кажется, это еврейская фамилия, — уточняет Амира Григорьевна степенно.
— Да, — соглашается Люсенька робко. — И я, конечно, не хотела, чтобы дети страдали от антисемитизма…
— Голядкина! — фыркает Агнес. — Глупости, враки! Ее фамилия Голубкина.
— К вашему сведению, высокоуважаемая, это одно и то же, — цедит Фринляндкин сквозь зубы. — «Голяд» — это по-латышски голубь!
— Вот как? — Агнес не проведешь, Агнес — это вам не доверчивая Люсенька. — Откуда вы знаете? Вы что, латышский стрелок?
Мне удается наконец отделить от торта бесконечно длинный, липкий, истончающийся к концу ломоть.
— Мне! Мне! Мне первому! — кричат, подскакивая на стульях и притопывая ногами, Петя и Яша.