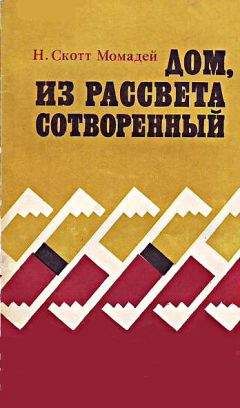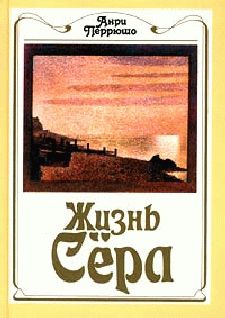А там, где он стоял только что, подступила в борозде вода и перелилась через край. Растекшись по земле, она заполнила двойной ряд серповидных вмятин от его каблуков. Там и сям чернели на земле полоски грязи, отвалившиеся от лезвия мотыги. А вот и снова задышало — часто, взбудораженно-неровно. Над приоткрытым ртом подслеповатые глаза — следят, как старик уходит с поля, и голые веки моргают беспомощно за темными стеклами.
1 августа
Прошло три дня; у отца Ольгина они протекли в обычных трудах. В эту зрелую пору лета он умиротвореннее дышал мускусной прохладой своего дома, живее стряхивал с тела вялость по утрам после мессы, когда сердце лениво гонит кровь, а мозг медлит, не хочет сосредоточиться на заботах дня. За последние несколько дней он — хвала господу — привел в порядок приходские дела. Он был доволен. Наконец-то он начал ощущать ритм жизни древнего селения и начал четче представлять, как его собственный пульс в конце концов забьется с этим ритмом в унисон. А это само уж по себе доставляло ему немалое удовлетворение. Всю жизнь ведь он тянулся к тому, что достойно почитания; здесь же перед ним была святость куда исконней всякой, какую бы он мог себе вообразить, — в узких улицах здесь времена года текли медленной священнодейственною чередою.
Сегодня, в первый день августа, городок оживился. В поля ушло меньше народа, и женщины, стрекоча, засновали, как белки, во двор и со двора, из дома в дом. Всюду стоял гомон тщательной и спешной подготовки. Над глиняными печами на струистых столбах жара возносились в небо пепел и зола, кружась, рассеиваясь вдоль улиц; по всему городку остро пахло можжевеловым и камедным дымом, и несло смолистый этот дух в утреннюю тихую долину. А там, на старой дороге от Сан-Исидро, показались уже крытые повозки. В них сидят старейшины навахой, они едут первыми, а за ними будут прибывать весь день и вечер дине [Дине — на языке племени навахов — люди] среднего и молодого возраста, которые сейчас съезжаются к перепутью, чтобы раздобыться там вином. Весь день будут прибывать с юга фургон за фургоном, медленно, словно вовсе не двигаясь на пологом подъеме, но вырастая, вырастая в размерах, — и вот уже серый крытый верх очередного фургона вздулся парусом среди равнины, а в кильватере за ним, справа и слева, едут на конях поджарые парни, пыльные и пьяные, едут красивые девушки, солнечно блестя серебром блях и ворсом вельвета, гибкие, прямые, как струна, и словно влитые в седло; и бегут запаленно собаки. Поделав домашние дела, выскочат к заборам дети глядеть на проезжающих, радуясь и дразнясь, воскрешая извечное действо привета, удивления и смеха. Замыкать парад гостей будут убого пыжащиеся глупцы: обрюзгшие жирные скво [Скво — замужние женщины], оглушенные вином, и угрюмые мужчины, насупленно трясущиеся следом. Но теперь едут вожаки родов, морщинистые хранители освященного временем союза навахов и пуэбло — едут еще раз возобновить ежегодную страду приветствий и прощаний.
Немного погодя, когда отец Ольгин набрал из ульев меду и услышал людской гам, покрывавший гудение пчел, он вспомнил об Анджеле. Теперь он мог о ней думать без того небольшого волнения, которое она первоначально так легко в нем вызывала. Конечно, он и сейчас чувствовал ее женскую прелесть, но она уже не нарушала его душевный покой. Анджела, так сказать, без слов согласилась держаться почтительно поодаль. Ибо как иначе истолковать ее молчание? На почтительность она вполне способна. Что ж, отлично, он немедля отплатил ей той же благою монетой, радушно пригласит ее на торжественное нынешнее празднество. К уединению она не привыкла — ей, разумеется, тоскливо, — она бесхитростно и полностью разделит его духовную радость. Она поймет, что он весь поглощен своей ответственнейшей пастырской миссией, и позавидует ему — если не свершенному им, то, во всяком случае, тому, что может еще быть свершено. Эта мысль была ему приятна, и он, как пчелка, усердно протрудился у себя все утро, а в полдень продолжительно и громко звонил к молитве.
Также и после полудня, когда обыкновенно тишина с особой весомостью ложилась на город, не утих шум и гам — напротив, он все нарастал. Обычный ход дня прекратился, и у отца Ольгина возникло чувство, будто вот-вот грянет вселенский переворот и в мире воцарится новый порядок вещей и событий, гуще наполненный жизнью. И это чувство не ослабело, когда, почти принудив себя, он вывел машину из города в каньон и оставил позади шум наступающего праздника. Странное воодушевленье на него нахлынуло, объяло тихим веселым огнем; легко дыша, он выставил раскрытую ладонь на упругий ветер, за стекло.
На горном горизонте, за северными пиками, лежала низкая гряда грозовых туч. Густея в дальней дали, они, казалось, были там от века — темные, застывшие, полярные, ночные. Он глядел туда и прибавлял скорость, смутно надеясь въехать в гущу дождевого запаха. Августовское далекое предгрозье — это словно бы подсумраченный свет над краем, когда жестче, обветренней выглядят скалы, а на реке и листьях сухой странный блеск. От этой подмеси мрака в летнем небе, пусть невесомой и призрачной, возникает жидко-свинцовый отблеск на песке, утесах, пыльных ветках сосен и можжевельника и ощутимо в воздухе какое-то тщетное сопротивление.
На солнце заблестели крыша и стены дома Беневидеса. Притормозив, он свернул с дороги на белую гравийную аллею, на которой мелькали проплешины твердого бурого грунта и серые ребра камней, слишком глубоко засевших и потому оставленных в земле. Подъем к ступенькам крыльца был неровен, и гравий ссыпался вниз из-под обутых в сандалии ног. У крыльца гуще обычного летали мухи, увившая веранду лоза вся гудела от пчел. Открыв дверь, Анджела молчаливым кивком пригласила его в дом — с этой слабою своей улыбкой, означающей, что она погружена в раздумье, еще не полностью очнулась от него. Отец Ольгин мог бы заметить, что она слегка и неприятно удивлена его приездом, ощутить тягостность ее молчания. Но, не подозревая ничего, он вошел в сумеречную комнату, где опущены были все шторы, и сел уютно и непринужденно, как дома. У индейцев будут нынче ритуальные пляски, как у дервишей, сообщил он. Ей стоит посмотреть.
Он сразу же взял с ней назидательно-пастырский тон — в соответствии со своими собственными предрассудками, — ведя речь с претензией на библейский стиль, привнося во все оттенок баснословности. В этом духе он проговорил несколько минут. Он поведал ей (витийствования его переданы не дословно), что город живет по древнему солнечному календарю, где отмечены пришествия и страстотерпчества всех божеств, прорицанья, даже самые наитуманнейшие, всех оракулов, назначенные дни и годы всяческих пагуб и избавлений. Она слушала. Она вслушивалась сквозь него в звуки дождя, лившего на отдаленной горе, в перекаты грома, раскалывавшего там небо и сотрясавшего деревья. Она мысленно слышала, как дождь шумит на конусах вечнозеленых крон, слышала даже, как гнутся, шуршат отягченные ветви и струится широко вода по черным склонам. А тем временем он говорил, и за окнами и стенами стоял иссушающий зной. Ей страстно хотелось дождя. Сушь жгла глаза, линии рта стали резче. И тут говорящий замолчал, почувствовав ее у себя за спиной. Повернувшись, он взглянул на нее наконец. В сумраке она казалась маленькой. Он ждал, чтобы она заговорила.
— О господи, — сказала она смеясь. — Сердечно сожалею… что прегрешила пред тобою.
Она смеялась. Смех ее был жёсток и рассыпчат, но лишен тоскливых, горьких ноток; в нем ощущалось скрытое спокойствие, почти избыточное самообладание. И это даже сильней, чем издевательский смысл слов, ужаснуло отца Ольгина. Он весь сжался. И только голос ее продолжал монотонно и вяло звучать в комнате, даже когда перестал уже доходить до слуха отца Ольгина.
Когда, возвращаясь, отец Ольгин въехал в город, улицы полны были народа. Дети встречали его криками, из-под колес бросались кто куда собаки, индейки и овцы. Он сигналил, сворачивал. Уголком здорового глаза он видел, как шарахнулся с дороги ребенок, упал. Кувырнулся — и засмеялся. Внезапно загремели смехом стены, обступив машину отовсюду. Он ехал из улицы в улицу, и везде были нескончаемые ряды глиняных отвесных стен, унизанных людьми, бесчисленными и гротескными. Везде стояли женщины, мужчины, оплывшие или иссохшие от возраста, и бегали дети, резвясь и кувыркаясь на волне праздничной гульбы; и во всех глазах была одна и та же чуждость — один загадочный извечный лик глядел на него, искаженный идиотическим весельем. Его покоробило от страха и отвращения. Машина дернулась под ним, круто, на левом колесе обогнула слепой угол стен, ребро протектора взметнуло пыль, осыпало песком металл крыла и рамы — и прямо перед ним вырос фургон: дуги высокого верха, железом обтянутые ободья колес, черная пещерка фургонного нутра. Он резко выжал тормоз и услышал, как шины вмялись, вгрызлись в песок, уперлись в утрамбованную землю. Инерция толчком прошла сквозь тело, налегла огромной тяжестью на двигатель, сжала рессоры. Машину тряхнуло, закачало, облако пыли и смеха надвинулось, и он увидел перед собой плоскую, из двух дощечек, люльку, прикрепленную стоймя к фургону. На уровне его глаз качался кожаный козырек изголовья, а за этим изукрашенным щитком было лицо младенца. Глаза индейчонка ушли в пухлые сальные щелочки, из-под тугого свивальника выпирали щеки и жирный подбородок. Волосы лежали на лбу мокрыми жесткими колечками, и все лицо, мясистое, бесформенное, сочилось потом и медно блестело на солнце. По лицу ползали мухи, густо обсев глаза и рот. Лицевые мышцы подергивались под покровом жира, и голова медленно вертелась с боку на бок в муке грустного, беспомощного смеха. Затем пелена пыли опустилась на лицо, и крики детей слились в поющее, пронзительное и неумолкаемое: «Падре! Падре! Падре!»