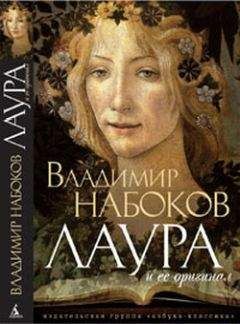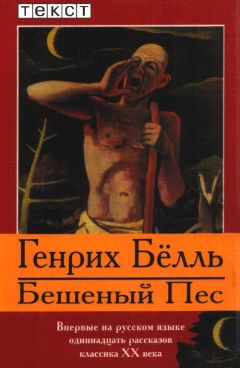Я пошел в том направлении, куда указывала черная рука, и обнаружил на углу улицы другую черную руку с надписью: «Гостиница «Гол» напротив», — и когда я посмотрел напротив и увидел на другой стороне улицы дом из красноватого кирпича в черных струпьях от густого дыма шоколадной фабрики, то понял, что аптекари не дошли до этих мест.
Каждый раз меня удивляет, с каким волнением я прислушиваюсь к голосу Фреда по телефону: голос у него хриплый, чуть усталый, и в нем звучат безразлично-официальные нотки. Это делает его чужим и еще усиливает мое волнение. Так он разговаривал со мной из Одессы и из Севастополя, а потом, после того как он начал пить, — из разных гостиниц, и всегда, когда я снимала трубку и слышала, что он нажимает кнопку автомата и монетки падают вниз, давая соединение, у меня замирало сердце. Меня волнует эта звенящая, официальная тишина в трубке перед тем, как он начинает говорить, его кашель и та нежность, которую он умеет придать своему голосу, разговаривая по телефону.
Сойдя вниз, я застала хозяйку дома в углу на кушетке, среди старой потертой мебели, у письменного стола, заваленного картонками из-под мыла, коробками с противозачаточными средствами и маленькими деревянными шкатулками, где она хранит особенно дорогую косметику. Вся комната пахла палеными женскими волосами; этот дикий, ужасный запах волос, которые успели спалить за целый субботний день, проникал в задние комнаты из парикмахерской. Но сама фрау Редер была неряшливо одета и не причесана; перед ней лежал раскрытый библиотечный роман, который она не читала, потому что наблюдала, как я подносила к уху трубку. Потом она, не глядя, сунула руку в угол за кушетку, вытащила бутылку и, не сводя с меня своих усталых глаз, налила себе полную рюмку коньяку.
— Алло. Фред, — сказала я.
— Кэте, — сказал он, — я нашел комнату и у меня есть деньги.
— Вот хорошо!
— Когда ты придешь?
— В пять. Я хочу еще испечь детям пирог. А мы пойдем танцевать?
— С удовольствием, если хочешь. Здесь в гостинице танцуют.
— А где ты?
— В гостинице «Голландия».
— Где это?
— К северу от вокзала, пойдешь по Вокзальной улице и увидишь на углу вывеску с черной рукой. Иди в направлении вытянутого указательного пальца. Как дети?
— Хорошо.
— Я купил им шоколад, и мы подарим им воздушные шарики. А еще я хочу, чтобы они съели по порции мороженого. Я дам тебе денег на это; скажи им: мне жаль, что я бил их… Я был неправ.
— Я не могу им этого сказать, Фред, — ответила я.
— Почему?
— Они будут плакать.
— Пусть плачут, но они должны знать, что мне жаль. Это очень важно. Скажи им, пожалуйста…
Я не знала, что ему ответить. В это время хозяйка привычным жестом налила себе опять полную рюмку, поднесла ее к губам и медленно, сполоснув рот коньяком, выпила; я заметила, что когда алкоголь попал ей в горло, на ее лице появилась гримаса легкого отвращения.
— Кэте, — произнес Фред.
— Да?
— Скажи детям все; пожалуйста, не забудь и расскажи им и о шоколаде, о воздушных шариках и о мороженом. Обещай мне.
— Я не могу, — сказала я. — У них сегодня такая радость, им разрешили участвовать в процессии. Я не хочу напоминать им о побоях. Я скажу им потом как-нибудь, когда мы будем говорить о тебе.
— А вы говорите обо мне?
— Да, они спрашивают меня, где ты, и я говорю им, что ты болен.
— А я правда болен?
— Да, ты болен.
Он помолчал, и я услышала в трубке его дыхание. Хозяйка подмигнула мне, усердно кивая головой.
— Может, ты права, может, я действительно болен. Значит, в пять. Запомни, вывеска с черной рукой на углу Вокзальной улицы. Денег у меня достаточно, и мы пойдем потанцуем. До свидания, родная.
— До свидания. — Я медленно положила трубку и увидела, что хозяйка поставила на стол еще рюмку.
— Идите сюда, милая, — сказала она тихо. — Выпейте рюмочку.
Раньше я иногда спускалась к ней и из упрямства жаловалась на то, в каком плохом состоянии находится наша комната. Но каждый раз, угостив коньяком, она обезоруживала меня убийственной безучастностью ко всему, меня завораживали ее усталые глаза, та мудрость, которая светилась в них. Кроме того, она умела растолковать мне, что ремонт нашей комнаты будет стоить больше, нежели квартирная плата за три года. У нее я научилась пить. Сперва коньяк обжигал меня, и я просила у нее ликера.
— Ликера? — говорила она. — Кто же пьет ликер?
Я уже давно успела убедиться, что она права: коньяк действительно хорош.
— Ну идите же, милая, выпейте стаканчик.
Я села напротив нее, и она пристально посмотрела на меня — так смотрят пьяницы; а мой взгляд упал на груду картонных коробок с пестрыми полосками; на коробках было написано: «Резиновые изделия фирмы Грисс. Высший сорт. Покупайте только наши товары с фабричной маркой «Аист».
— Ваше здоровье, — сказала она, подняв свою рюмку. Я тоже сказала: «Ваше здоровье» — и выпила приятно-жгучий коньяк. В это мгновение я поняла мужчин, которые стали пьяницами, поняла Фреда и всех тех, кто когда-либо напивался.
— Ах, детка, — сказала она и с такой быстротой налила мне снова, что я поразилась. — Никогда не жалуйтесь. Против бедности нет лекарства. Пришлите вечером детей, пусть поиграют, ведь вы собираетесь уходить?
— Да, — сказала я, — собираюсь уходить, но я уже договорилась с одним молодым человеком, он останется с детьми.
— На всю ночь?
— Да, на всю ночь.
Слабая усмешка на секунду преобразила ее лицо — его словно надули чем-то изнутри, и оно стало походить на желтую губку, но потом лицо снова опало.
— Ах, так, ну тогда отнесите им пустые коробки.
— Большое спасибо, — сказала я.
Ее муж был маклером и оставил ей в наследство три дома, парикмахерскую и целую коллекцию коробок.
— Выпьем еще по одной?
— О нет, спасибо, — сказала я.
Стоит ей дотронуться до бутылки, ее руки перестают дрожать и движения приобретают такую нежность, что мне становится страшно. Она налила мою рюмку тоже доверху.
— Спасибо, — сказала я, — мне больше не надо.
— Тогда я выпью ее сама, — сказала она и внезапно, зорко взглянув на меня прищуренными глазами, спросила:
— Вы беременны, детка?
Я испугалась. Иногда мне кажется, что это так, но я еще сомневаюсь. Я покачала головой.
— Бедное дитя, — сказала она. — Вам будет трудно. Ко всему прочему еще младенец.
— Не знаю, — сказала я неуверенно.
— Вам нужно переменить помаду, детка.
Она опять зорко взглянула на меня, подняла свое грузное тело в пестром халате и, переваливаясь, протиснулась между стулом, кушеткой и письменным столом.
— Идите сюда.
Я пошла за ней в парикмахерскую; запах паленых волос и разлитого одеколона, словно облако, окутывал все помещение. От завешанных окон было сумрачно, но я увидела аппараты для шестимесячной завивки и сушилки, заметила, как тускло блестел никель в убийственном свете воскресного дня.
— Идите же сюда.
Она рылась в каком-то ящике, где валялись папильотки, раскрытые трубочки губной помады и пестрые коробки с пудрой. Вынув одну трубочку, она дала мне ее и сказала:
— Попробуйте вот эту.
Отвинтив латунную крышечку, я увидела, как выползает темно-красный карандаш, похожий на застывшего червяка.
— Такая темная? — спросила я.
— Да, такая темная. Попробуйте, накрасьте губы.
Эти зеркала здесь, внизу, совсем не похожи на обычные. Они не дают взгляду проникнуть в глубину. Они придвигают лицо совсем близко к тебе, так что оно кажется плоским и гораздо красивее, чем в действительности. Я приоткрыла рот, нагнулась вперед и осторожно намазала губы темно-красной помадой. Но мои глаза не привыкли к таким зеркалам — мне кажется, что глаза расширяются, ибо взгляд, который убегает от моего лица, все время выскальзывает из зеркала, возвращаясь обратно к лицу. У меня закружилась голова, и когда хозяйка положила руку на мое плечо и я увидела в зеркале позади себя ее пьяное лицо и спутанные волосы, я содрогнулась.
— Прихорашивайся, голубка, — сказала она тихо, — прихорашивайся для любви, но не разрешай, чтобы тебе все время делали детей. Эта помада как раз то, что тебе нужно, детка, верно?
Я отошла на шаг от зеркала, ввинтила карандаш обратно и сказала:
— Да, это то, что мне нужно, но у меня нет денег.
— Ах, оставьте. Деньги терпят… потом.
— Хорошо, потом, — сказала я. Я все еще смотрела в зеркало, раскачиваясь на его поверхности, словно на льду, а потом, прикрыв рукой глаза, отошла совсем.
Она положила на мои вытянутые руки целую гору пустых коробок из-под мыла, сунула в карман моего фартука помаду и открыла дверь.
— Большое спасибо, — сказала я. — До свидания.
— До свидания, — ответила она.
Не могу понять, как Фред может приходить в такую ярость из-за того, что дети шумят. Ведь они очень тихие. Их совсем не слышно. Когда я стою у плитки или у стола, в комнате иногда бывает так тихо, что я со страхом оборачиваюсь: хочу удостовериться, здесь ли они. Они строят из коробок домики, шепчутся между собой, и, когда я оборачиваюсь, вскакивают и, заметив в моих глазах испуг, спрашивают: