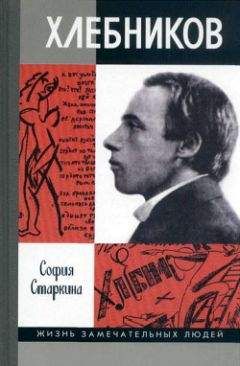Тухачевский: «...Дорогой, любимый друг!.. Я встретился с Михаилом Васильевичем в период развала Восточного фронта... Спокойствие, уверенность сквозили во всей славной фигуре тов. Фрунзе... Прощай!..»
* * *
...ЦИК СССР постановил назначить наркомвоенмором тов. Ворошилова; первый заместитель М.М.Лашевич, второй заместитель И.С.Уншлихт.
Четырехсотлетний Тохтамыш редко покидал насиженное гнездо под шатром Водовзводной башни. Казалось, одна была задача у старой птицы – пересидеть в сонливой задумчивости все эти столетья. С какой целью их следовало пересиживать, боюсь, ему (ей) самому (самой) было неведомо. И только тогда, когда в крепости вдруг ломался порядок дней, Тохтамыш по ночам вываливался через одному ему знакомую апертуру в поток московского воздуха и совершал облет стен, как бы желая удостовериться – устоят ли? Так и в ту ночь, уловив какой-то своей ускользнувшей от внимания орнитологии мембраной волнение новых князей, называемых комиссарами, Тохтамыш пустился в свой неслышный, не ахти какой грациозный, однако исполненный онтологической уверенности полет.
Поднявшись саженей на полста – в воздухе, кроме пары заштатных ворон, никого не замечалось, пахло дымком, дерьмецом, как обычно, пороху не учуял, – он описал широкий круг над своим пристанищем, потом, снижаясь, миновал Боровицкую, пролетел, если не проплыл, над Оружейной палатой и Потешным дворцом, приблизился к Арсеналу...
Все было тихо, вязко и сыровато, караулы на местах, двери на запорах, внешне ничто не выдавало волнения комиссаров, которое Тохтамыш уловил своей таинственной мембраной, и только во дворе Арсенала металось нечто.
Тохтамыш опустился на желоб водостока, брезгливо отвернулся от валявшегося там воробьиного трупика – он уже лет сто пятьдесят не жрал падаль – и уставился на мечущееся нечто, а именно на здешнего придворного поэта Демьяна, который называл себя «бедным», хотя и был богаче многих.
Сыч уже видел как-то мельком этого человечка, невзлюбил его сразу и запомнил. Мышиную суетливость свою Демьян прикрывал, анамсыгымтуганда, революционной романтикой, бездарность виршей – актуальностью.
Что же это он так мечется, будто барсук, нажравшийся волчьей ягоды? Ах да, вдохновение! В громовые дни набега, еще в том, прежнем обличье, Тохтамыш отличался остротой слуха. Сейчас он попробовал к ней вернуться и уловил бормотание.
«...Друг, милый друг... – бормотал Демьян, заламывая руки и подымая горй мясистое лицо, то ли ища луну, то ли принимая два светящихся совиных глаза за ободряющее созвездие. – Давно ль?.. Так ясно вспоминаю (аю, аю, аю): агитку настрочив в один присест (сест, сест, сест), я врангелевский тебе читаю (аю, аю, аю) манифест (фест, фест, фест)... Их фанге ан, я нашинаю... Как над противником смеялись мы вдвоем (ем, ем, ем)! Их фанге ан!.. Ну, до чего ж похоже (оже, оже, оже)! Ты весь сиял: у нас среди бойцов подъем (ем, ем, ем)! Через недели две мы „нашинаем“ тоже (оже, оже, оже)... Потом... мы на море смотрели в телескоп (коп, коп, коп)... Железною рукой в советские скрижали вписал ты „Красный Перекоп“ (коп, коп, коп)... А где же жали-жали-жали?..
...Потом, потом, сейчас главное – не упустить вдохновения, рифмы потом... И вот... неожиданно роковое свершилось что-то... Не пойму (му, му, му), я к мертвому лицу склоняюсь твоему (му, му, му) и вижу пред собой лицо... какое?.. живое! (вое, вое, вое)... Стыдливо-целомудренный герой (рой, рой, рой), и скорбных мыслей рой (ой, ой, ой)... совсем неплохо, по-пушкински получается... нет сил облечь в слова прощального привета... звонить в «Правду» немедленно... (ета, ета, ета)...»
Больше такого надругательства над ночными словосочетаниями Тохтамыш терпеть не мог и потому нырнул вниз, овеял поэта страшноватым крылом, дабы заткнулась грязная пасть.
Глава третья
Лечение Шопеном
Год завершился в шелесте вечно двусмысленных газет, в грохоте все расширяющейся трамвайной сети Москвы, в кружении будто обугленных обитателей московского неба, во все нарастающих синкопах чарльстона, бросающего вызов триумфальному, хоть иногда и расползающемуся, словно мазут, гулу пролетарских труб.
Пришли снега, и сошли снега, накрылись и прошумели сады перед тем, как в начале октября 1926 года наше повествование вновь, вслед за молочницей Петровной, въехало на дачу Градовых в Серебряном Бору.
Двери всех комнат внизу открыты. Пусто, чисто, светло. Из библиотеки разносится Шопен. Мэри Вахтанговна играла, как всегда, бурно, с вдохновением, как бы придавая среднеевропейским равнинным пассажам некое кавказское стаккато. Время от времени, однако, она бросала быстрые внимательные взгляды на мужа, который сидел в глубоком кресле, закрыв глаза ладонью.
Рядом с хозяином в классической позе молодого послушного пса сидел Пифагор. Его высокие уши тоже улавливали поток непротивных звуков. Иногда неслышно, в шерстяных носках проходила по комнатам Агаша, раскладывала по полкам чистое белье, поглядывала на хозяина, вытирала платочком уголки глаз.
Борис Никитич в щелку между пальцами созерцал вдохновенный профиль жены. «Странно, – думал он, – ее княжеский профиль меня никогда эротически не тревожил. Но вот когда она поворачивалась ко мне лицом, с этими высокими крестьянскими скулами и пухлыми губами... Почему я думаю об этом в прошедшем времени, мы еще молоды в конце концов, наше либидо еще...»
Молочница Петровна с тяжелыми бидонами, корзиной и ведром шумно размахалась дверьми и увидела утреннюю идиллию. «Ишь ты, – с умилением подумала она, – жив буржуй».
– Господь с тобой, тише, Петровна! – бросилась к ней Агаша. – Пошли, пошли на кухню!
На кухне, выгружая сметану и творог, Петровна поинтересовалась:
– Чего-сь тут у вас такое?
– Профессор музыкой лечится, – значительно пояснила Агаша.
– Простыл, что ли?
– Ах, Петровна, Петровна, – покачала головой утонченная Агаша.
– А мой-то от всего стаканом лечится, – вздохнула Петровна. – Не поможет стакан, второй берет. Тогда порядок.
– Ну, иди-иди, Петровна.
Сунув деньги, Агаша спровадила пышущую здоровьем и чистотой бабу за дверь, а сама остановилась у притолоки – внимать.
* * *
Мэри закончила концерт блестящим глиссандо и встала.
– Как ты себя чувствуешь, Бо?
Борис Никитич тоже поднялся из кресла.
– Спасибо, Мэри! Ты же знаешь, мне этот прелюд всегда помогает. – Он подошел к жене и обнял ее за плечи, деликатнейшим образом стараясь повернуть ее к себе лицом. Мэри Вахтанговна уклонилась и показала в окно.
– Смотри, Пулково уже приехал!
От калитки к дому под пролетающими желтыми листьями не торопясь шел Леонид Валентинович Пулково в своем английском «шерлок-холмсовском» пальто.
– При всем своем разгильдяйстве Ленька всегда точен, – улыбнулся профессор.
– Ну, отправляйтесь все гулять, – распорядилась Мэри Вахтанговна. – Пифагор, ты тоже идешь с папочкой.
Пес радостно закружился вокруг, временами, будто заяц, поджимая задние ноги.
Агаша уже стояла в дверях с пальто и шляпой для профессора.
– Позвольте напомнить, Боренька и Мэричка, Никитушка и Вероникочка к ужину прибывают прямо с вокзала, – сказала она.
– Да-да, Бо, ты не забыл? Через два часа у нас полный сбор, – строго, пытаясь сдержать какое-то экстатическое чувство цельности, произнесла Мэри Вахтанговна.
Пес не мог сдержать, очевидно, очень похожего чувства, подпрыгнул и лизнул хозяйку в подбородок.
– Да-да, Пифа, ты не забыл! – восхитилась она. – Я вижу, вижу! Напомни в крайнем случае своему папочке, если он вместо оздоровительной прогулки отправится со своим другом на ипподром.
Весь прошлый год Борис Никитич, невзирая на сильнейшие приступы уныния, работал как оглашенный. За операционным столом он уже, по сути дела, не знал себе равных – то, что называется мастерством, давно ушло, уступив место высочайшему классу, виртуозности. Он и в самом деле ощущал себя с ланцетом и кохером в руках чем-то вроде дирижера и скрипача-солиста одновременно. В минуты вдохновения – да-да, он испытывал иной раз истинное хирургическое вдохновение! – ему казалось, что вся сфера жизни, находящаяся в этот момент под его господством – ассистенты, сестры, инструменты, распростертый пациент, – в эти минуты вся жизнь улавливает не только его слова, хмыканья, покашливанья, малейшие жесты, но и мысли, никак не выраженные, чтобы немедленно им подчиниться, и не ради подчинения, а ради общего согласного звучания, то есть гармонии.
Лекции его всегда собирали «битковую» аудиторию. Врачи из столичных клиник и из провинции ссорились со студентами из-за мест. Говорили, что даже университетские филологи приезжают, якобы для того, чтобы удостовериться на его примере в жизнеспособности и идейной цельности сохранившейся части российской интеллигенции.
Еще большие успехи были достигнуты в теории и создании школы. Статьи, направленные на развитие его оригинальной концепции хирургического вмешательства, вызывали немедленные живые дискуссии на заседаниях Общества и в печати, как отечественной, так и, да-с, зарубежной. Молодые врачи, идущие по его стопам, и среди них прежде всего талантливейший Савва Китайгородский, гордо называли себя «градовцами». Словом... да что там... как бы там ни было... ах, черт возьми...