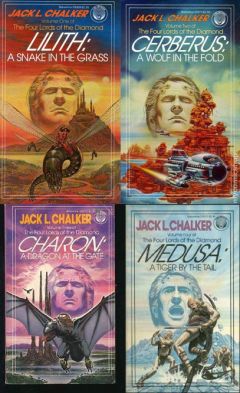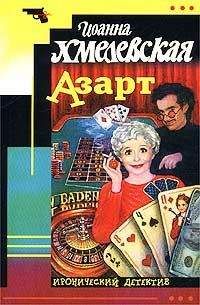P. S. А у меня шестой родился, еще в июне. Опять девка».
Братья сидели и пили чай. Большак молчал, а Сергей все перечитывал и перечитывал письмо, отдельные его места. И казалось, будто он это уже слышал или читал. А может, во сне снилось, да заспал потом сон, и осталось только смутное его воспоминание? Сергей машинально хватал губами горячий чай, смотрел на почерк Тимофея, вспоминал и ничего не мог вспомнить. Уж не рехнулся ли он с этими экзаменами и комиссией, с поздними гостями, стерегущими у дома? Выхватил, поди, письмо из ящика, прочитал и моментально забыл.
Сергей встал, задумчиво покружился по кухне, затем достал из бара коньяк, выставил две рюмки.
— Я не буду! — заявил Иона и убрал одну рюмку. — И тебе не советую. Давай на трезвяк думать.
Сергей выпил, снова взял письмо. Взгляд остановился на фразе: «А батя и говорит: знаешь, Тимка, поеду я, однако, в Россию жить…»
— И вообще не советую, — повторил Иона. — Сегодня рюмку от расстройства, завтра от счастья. И пошло-поехало. А там алкоголизм стучится!.. Тебе нельзя ум пропивать, скоро профессором станешь. Докторскую-то написал?
— Написал, — бросил Сергей и снова впился в фразу: «…поеду я, однако, в Россию жить…»
Брат умолк, глянул исподлобья, набычил шею. Сжатые кулаки на столе были чуть меньше чайника.
— Здорово он нас? — спросил. — Вот тебе и поскребыш.
— Иона, ты не знаешь, кто почту жжет? — вдруг спросил Сергей. — Почему? Зачем?
— Хулиганье! — бросил брат. — Ты это к чему?
— Так, — проронил Сергей, — совпадение… Голова не соображает.
— А ты пей больше! — рявкнул. Иона и убрал бутылку. — Что? Задумался? Вот и я прочитал — задумался. Ишь, шестого родила. Значит, еще тысчонку с бати сдернул плодовитый наш… Это что за родня твоя наезжала?
— Не знаю, — Сергей пожал плечами. — Не моя родня…
— Ну бабы твоей! Она еще и родню туда пихает… Во деятели! Так и глядят, где бы на чужом горбу… Что делать-то будем?
— Устал я… — пожаловался Сергей. — Смысл трудно доходит…
— А я — нет! Я свеженький к тебе приехал, с курорта!.. — Иона встал. — Там, по-моему, не с батей — с Тимохой разобраться надо. Нас корит, а сам?.. Рядом был, не мог сосунков этих переловить? На словах только герой, а так сопли распустил!.. В суд, не в суд! Да я бы их, гадов, в дерьме утопил!.. Что молчишь, ученый? Есть у тебя совесть? Поскребыш спрашивает, есть?
— Ты знаешь, он все просил в Киров заехать, в старую Стремянку. Попутно, — проговорил Сергей. — Видишь как… А я сегодня на лестнице тебя не узнал.
— Где ж ты узнаешь! — брат пнул пакет с картошкой. — У тебя теперь другая родня. Вон ее сколь! Ты у нас ломоть отрезанный. Мы тебе чужие стали.
— Ну, хватит! — взорвался Сергей. — Указчик нашелся!
— Я тебе старший брат! — отрезал Иоиа. — Имею право указывать!.. И вообще, ты почему к отцу ездить перестал? Деревенской родни застыдился?
— А ты?
— У меня другое дело. На мне предприятие — тысяча душ! Я два года в отпуске не был. Шпалопропитка вон сгорела. Убытки, комиссии… В самом деле — ни стыда, ни совести. Один там, другой здесь, а об отце подумать некому. Опять мне? Опять на мою шею сядете? Может, хватит кататься-то?…
Иона глотком допил чай, потрогал письмо и вдруг засобирался.
— Короче, думай. Мы тебя не зря всей семьей выучили. Вот и думай, что делать. Сроку — сутки. Я завтра заеду. А письмо еще почитай, полезно будет.
Он ушел в переднюю, начал крутить замок, как всегда, в другую сторону. Пыхтел, тихонько ругался.
— Погоди, — окликнул Сергей. — Погоди… Мы так и не договорили… Как тебе живется-то?
— Как? Вот так! — бросил Иона. — Хорошо живется!
— Ты бы остался, переночевал… Поговорили бы.
— Мне завтра с шести вагоны подадут на загрузку. Я уж лучше на работе… чем тут. Меня не ищи. Завтра сам буду.
Он вышел, прихлопнул дверь, но она отошла со скрипом, и в щель потянуло уличным холодком. Сергей запер ее и поплелся на кухню.
Неизвестно, что помогло — письмо, брат или коньяк, но усталость слетела. Он почувствовал бодрость, почти такую, с которой садился писать статьи: от возбуждения подрагивали руки, в квартире казалось тесно, душно. И, лишь распахнув окна, можно было работать. Он перечитал еще раз письмо, взял веник с совком, начал подметать, собирая и раскладывая по местам вещи. Однако ощущения чистоты не было. Тогда он пропылесосил ковер на полу, тахту, расставил посуду в шкафы, убрал книги со стола и кресел, протер пыль. И все равно свежести в квартире не добавилось. А когда снял с окон и дверей шторы, то вообще испортил маломальский порядок: теперь казалось, любой прохожий мог заглянуть с улицы. Вдруг его осенило — нужно вымыть пол! Именно с пола начинается чистота! Паркет кое-где зашаркался до черноты, в других местах, наоборот, желтел светлыми пятнами. Отмыть его, и будет чисто!
Сергей налил воды в ведро, взял на кухне самый большой нож и, намочив паркет, начал скоблить. Он скреб и вспоминал, как делала это мать в их стремянской избе. Пол мыли раз в неделю, тогда еще не крашенные половицы мать заливала водой, размачивала поверхность, а потом скоблила, посыпая чистым, речным песком. Работа длилась несколько часов, но потом было так приятно пройтись босиком. Желтые половицы казались мягкими, бархатистыми, ласкали подошвы. Древесная мякоть выскабливалась быстрее, чем сучки, и поэтому они слегка выступали из пола, делая его волнистым.
Сергей отскоблил весь коридор, несколько раз протер его мокрой тряпкой, затем еще раз отжатой и сел на Викин стульчик у двери. Пол засиял желтым светом, паркетины сливались между собой, и создавалось обманчивое ощущение половиц. Он обмыл ноги тут же, в ведре, и, ступая осторожно, пошел по коридору. Он прислушивался к своим ступням, но ничего, кроме стыков между паркетинами, не чувствовал. Прошелся взад-вперед, заметил, что натоптанная полоса черноты посередине смылась не до конца и проступала из глубины дерева.
И не было приятного ощущения, как не было и самой чистоты.
Сергей выискал в беспорядочной груде обуви на полке старые шлепанцы и, оставив ведро с грязной водой у двери, лег на тахту. Осмотрел, ощупал свои подошвы: кожа была чувствительной, нежной и желтой, как только что отскобленный деревянный пол. Ему вдруг захотелось плакать. Уткнуться, забиться в уголок и реветь, как ревелось только в детстве. Но в детстве-то Сергей как раз плакал очень редко, от самой жестокой ребячьей обиды мог отойти в сторонку, постоять с зажмуренными глазами и кривящимся ртом, перетерпеть, проглотить слезы. Это у Ионы глаза на мокром месте были, чуть тронь — часа два не успокоишь. Отец, бывало, за ремень брался, чтоб тот реветь перестал. И если плакал Сергей в детстве, то не от боли и обиды, а по причине совсем непонятной даже для самого себя. Вдруг накатит волна, и ни с того ни с сего защемит какая-то вселенская жалость.
Сейчас ему захотелось плакать, но слез не было, только настроение. Как хорошо было в детстве! Как сладко ревелось!..
Он вскочил с тахты и бросился в переднюю. Была еще одна живая душа — дог Джим, который сейчас наверняка не только плакал — выл от голода. Джим уже полгода жил в гараже: пришлось перевести его туда, чтобы освободить жизненное пространство. Квартира оставалась прежней, двухкомнатной, но почему-то становилась тесноватой. Вроде и мебель та же, и вещей не приросло, а такое ощущение — не развернуться. Последние полгода он стал работать больше ночами, нужен был свой угол в квартире, но ничего, кроме кухни, не оставалось. Вика подросла, ей тоже требовался уголок. Джима переселили, но проблема осталась… Может быть, не в площади было дело?
Сергей достал из холодильника брикет мороженой рыбы, отыскал в кармане плаща ключи — и побежал в гараж. Последнее время жизни в квартире Джим начал выть: скорее всего, тосковал. Вика жила у бабушки в Новосибирске, и они, Сергей и Ирма, освобожденные, являлись домой только ночевать. Нет, соседи не жаловались. Они лишь говорили, встречая на лестнице:
— А у вас собака опять выла.
Сергей пробежал два квартала по ночному городу, свернул к пустырю, где лепились гаражи, и сразу же услышал вой — негромкий, тоскливый и вместе с тем гулкий, будто в колодце. Он отомкнул дверь. Джим ткнулся в ноги и замер. На рыбу даже внимания не обратил.
— Ну что ты воешь? Что? — спросил Сергей и погладил дога по спине. — Туго, брат? Туго… Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду…
Он бросил рыбу в угол, к подстилке, и заметил, как из шерсти собаки сыплются искры: голубые, покалывающие ладонь.
— Вот и все. Мир и покой на твоей душе. Так? Нет?.. Погулять хочешь? Полаем при луне, а?
Имя собаке было дано Ирмой. Она когда-то защищала дипломную работу по Есенину. Джим гулять не захотел, ушел в свой угол. Не включая света, Сергей забрался в машину и налег грудью на руль. Ветер покачивал дверь гаража, и откуда-то доносился собачий вой: похоже, еще один бедолага маялся в каменном мешке.