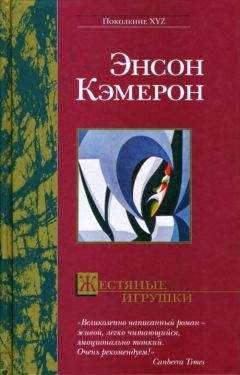- Прости, не думал, что для тебя это так важно. Уверен, что русские избегают власти потому, что не умеют и не любят подчиняться, не терпят жёсткой дисциплины и ответственности, вот и всё. Особенно наглядна терпимость русских к инородцам в многочисленных смешанных браках. Здесь, вероятно, никто не сможет похвастаться чистотой крови, да и в отличие, скажем, от немцев, англичан, поляков, и в мыслях такого нет. В русских вдоволь намешано и от татарина, и от поляка, и от литовца, и от финна и ещё чёрт-те от кого, потому и народ живуч и талантлив. Так что – не стыдись, а гордись, что русский.
- Пошёл ты… - вяло огрызнулся причисленный к живучим талантам, мечтающий только об одном: как-нибудь выбраться из благословенной страны.
Немчин опять рассмеялся.
- Иду, - поднялся и поставил чайник-кофейник на печку. – Я бы вообще отменил национальности, а в паспорте указывал, во-первых, образование, во-вторых, физические данные и хронические болячки, и, в-третьих, послужной список, чтобы сразу видна была твоя пригодность к определённому делу.
- Хочешь превратить человека в производственный механизм?
- Нет, хочу избавить от вранья и от разрушающей переоценки. Ты вот что, - оборвал Немчин националистический трёп, - сосни часок-другой-третий, а я покараулю твои сокровища. – Он раскатал постель, уложил поудобнее. – Вались, не стесняйся, я всё равно не усну сегодня.
- Это чистой воды дискриминация, - попытался Владимир продолжить тему, с трудом стряхивая сон.
- Это спасение от дураков и неумех, от которых избавиться потом труднее всего. Всё, я – молчу!
Владимир, согревшийся от еды и обволакивающего тепла, расслабившийся в безопасности и уставший от дороги, и впрямь, несмотря на обильный кофе, отчаянно клевал носом, безуспешно стараясь выказать заинтересованность к усыпляющему бурчанию Фёдора. Глаза самопроизвольно закрывались, и он, не сопротивляясь больше, с трудом снял сапоги, не раздеваясь, упал на раскладушку поверх одеяла и мгновенно заснул, как будто сон давно караулил у изголовья.
- 9 –
Бывает, спишь сутки, и не выспался, а иногда хватает и двух-трёх часов. Владимиру хватило. Словно спадающей пеленой исчезли сковывающая тягучая усталость и тормозящая апатия, сменившиеся энергичной бодростью и жаждой обновления. Тем более что во сне пришло одно, и единственно верное, решение.
- Вовремя, - одобрил пробуждение гостя хозяин. – Я как раз сварганил свежий кофе.
Печурка не топилась, тянула через трубу с улицы холод, в комнате заметно выстыло, и Немчин, сидя за столом, согревал ладони стаканом с дымящимся напитком. Владимир поёжился, ощутив со сна лёгкий озноб, упруго поднялся, потянулся так, что затрещали залежавшиеся кости, и улыбнулся навстречу улыбке Фёдора.
- Умывайся, - предложил тот, - и присоединяйся, пока не остыл.
Когда Владимир тщательно умылся из умывальника у двери и свежевыспавшийся и свежевымытый сел напротив, Немчин, задумчиво вглядываясь в него расширенными серыми глазами, неожиданно сказал:
- Сидел я перед тобой, сладко сопящим, смотрел и, знаешь, о чём думал?
- Почти догадываюсь: какой чёрт свалил тебя на мою голову.
Фёдор рассмеялся.
- Почти угадал. А думал о том, что хорошо, что ты вытянул моё досье в числе первых, иначе бы и не встретились, и я бы, законченный сирота, никогда не приобрёл брата. – Он положил свою широкую сильную ладонь на такую же большую ладонь Владимира, подтверждая тепло слов теплом крови. – Плохо в жизни одному: теряется её смысл.
- Скоро вас будет двое.
Немчин слегка тронул губы в улыбке, понимая ревность брата.
- То – не то: там – женщина. Любовь никогда не заменит родственной дружбы, она – слабее.
Глубокая согласная пауза подтвердила его слова.
- А ещё я думал, как тебе помочь, и, к сожалению, ничего дельного не придумал.
Немчин виновато убрал руку.
- И не надо, - успокоил брата Владимир. – Я, кажется, знаю, что мне нужно делать.
Фёдор, будто не расслышав, медленно отхлебнул из остывшего стакана, не замечая вкуса приевшегося допинга, задумчиво облизал губы и поделился своими размышлениями:
- Первое, что пришло мне в голову – это ехать с тобой: напару легче прорваться, оторваться от патрулей и подстраховаться от других неожиданностей.
Теперь уже Владимир поднялся и в волнении заходил по комнате.
- Не хватало, чтобы нас обоих захапали гэбэшники. Исключено!
- Да, - легко согласился Немчин. – Тем более что даже один день прогула на нашем номерном заводе сулит верную десятку лагерей. Или ты подождёшь, пока я попытаюсь отпроситься?
- Я поеду один, - неуступчиво сказал Владимир, - и не спорь: ты должен быть рядом с Мартой, а не со мной на сибирском лесоповале. Всякие другие варианты тоже исключаются.
Фёдор покачал головой.
- Не спеши, брат. – Он подошёл к раковине и выплеснул остывший кофе. – Какая бурда! – и снова сел, размышляя вслух: - Всего лучше было бы рвануть на восток вместе. Как ты? У меня здесь есть хороший знакомый в милиции – любые документы за хорошие деньги сделает. Годится?
Владимир молчал. Даже теперь, перед последним порогом у двери, ведущей в знакомую и одновременно неведомую послевоенную Германию, оккупированную и загаженную врагами, где будущее покрыто мраком, он сомневался, стоит ли его переступать. Может, смириться с тем, что он – русский, и остаться, положившись на судьбу? Или ещё лучше – уехать с Немчиным и начать жизнь нового русского? Он, наверное, так бы и сделал, согласился, если бы…
- Не годится, - отказался привередливый брат от заманчивого предложения, разрубавшего разом все узлы. – Мне обязательно надо вернуться в Минск – там осталось одно очень важное, важнее жизни, не доделанное дело, дело долга и совести, выполнить которое обязан ради памяти человека, пожертвовавшего жизнью ради моего спасения.
И он рассказал о немце Викторе-старшем и о русской Варе, венчаных и разлучённых войной и оставивших Владимиру память о себе в Вите-младшем.
- Вот узнаю от Шатровой, что сын пристроен, жив и здоров, вышлю им денег с запасом, тогда можно будет подумать и о собственной судьбе.
- Да, брат, - задумчиво сказал Немчин, выслушав Владимира, - счастливец ты! – и пояснил свою неожиданную мысль: - Оброс в России родственниками, а собираешься драпать от такого богатства в Германию. – Он улыбнулся от мысли, что тоже не в накладе. – Твоя родина – здесь. Там ты родился и маялся, и этого мало, чтобы называться родиной. По мне, она ассоциируется с приятно-щемящими, безоблачными, романтическими воспоминаниями детства и юности, с первой любовью, любой – взаимной или отвергнутой, с родителями, улыбающимися, любящими и справедливыми, с родными, задаривающими подарками, со знакомыми, с соседями, наконец, оставившими неизгладимый след в душе, а не с каким-то определённым местом. Женщины хорошо это понимают и чувствуют и легко приживаются везде, где хорошо их семье, а значит, и им. Пресыщенные жизнью сытые эстеты, искалеченные извращениями и славой, часто выпендриваются, выпячивая ностальгические страдания по родным местам, которые когда-то покинули без сожаления, а если сподобится вернуться, ноют и жалуются, что здесь всё не то и не так, как помнилось, и нет ничего, ради чего стоило возвращаться, а окружающие люди – вообще черствы душой и неблагодарны, не желая понять, как они облагодетельствованы возвращением гения. Разочарованные возвращенцы, которых давно никто не ждёт, даже природа, не хотят смириться с тем, что вода в реке течёт, и дважды в одну и ту же не вступишь. Не разочаруешься ли и ты?
- Не знаю, - после некоторого раздумья, покачав головой, с горечью ответил Владимир. – Ничего не знаю… - Он с мольбой посмотрел в глаза Фёдору, пытаясь взглядом передать брату переживания. – Я там вырос, стал немцем, немецкий язык – мой родной, та жизнь мне понятна, привычна, я стал частью её, мне там было удобно.
- Потому что был отгорожен от настоящей жизни, защищён от неё, привыкнув к регламентированным казарменным отношениям, - безжалостно определил Фёдор причину нравственного комфорта русского немца. – Ты перезрел в коконе, так и не став настоящей бабочкой. Вернувшись, увидишь, как тебе, незащищённому, в удобной Германии понятные немцы жестоко сомнут слабенькие крылья.
Владимир вздохнул, не в силах объяснить того, чего сам не понимал разумом.
- Однажды уже помяли – аж досюда долетел.
- Добавят, - пообещал щедрый брат. – Ты не приспособлен к свободному плаванию, а время научиться ушло. Стоит ли нарываться? Здесь, вдвоём, будет легче.
- Почти убедил, - улыбнувшись, согласился Владимир. – Я и сам в последнее время всё больше склонялся к тому, чтобы остаться, а порывистые желания выбраться в Германию – это, скорее, неуправляемые эмоциональные всплески, диктуемые страхом перед неведомыми переменами. Самому не хочется оставлять приличную работу, расставаться с очень хорошими людьми, с некоторыми из них почти сроднился, сошёлся близко, могу во всём положиться, опереться в трудную минуту, на тебя, например. Стыдно, что будучи, возможно, русским, воевал, выходит, против своих и продолжаю сейчас. Как подумаю, так хочется бежать без оглядки. А тут ещё Сашка… А так…