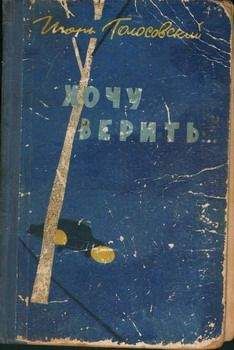— Я не могу… Сейчас не могу…
Закрыв глаза, Маша как будто задремала.
Я стал читать.
Записки Зинаиды Петровны, написанные ею для Маши, лежат сейчас передо мной. Вот они:
«…Видно, не суждено нам с тобой свидеться, Машенька. Ждала, я, когда ты вырастешь, чтобы рассказать тебе то, что знать ты должна непременно, и время такое теперь пришло, но до тебя мне не добраться, а ты ко мне не едешь.
Руки ослабели, перо не держится, однако написать нужно все до конца: ведь, кроме как от меня, ни от кого ты больше про это не узнаешь.
Ты уже, верно, догадалась, что речь я поведу о матери твоей, Людмиле, женщине странной, на других ее похожей. Судьба у нее была запутанная и мне непонятная, а ты, может, вырастешь, разберешься. Но только не суди ее строго, время было страшное, кровавое, большие деревья под бурей падали, а мама твоя была слабой лозинкой.
До войны мы с ней ругались по-пустому, ты нас навсегда помирила. Из-за тебя я и в Прибельске осталась горе мыкать, привыкла к тебе, пока Людмила на своих курсах училась. Своих-то детей у меня не было.
Не знаю я, что важно, а что неважно для тебя, а потому опишу все подряд с того дня, когда немцы заняли город.
Людмила ночью, забрав чемоданчик, ушла и приказала, если станут ее спрашивать, отвечать, что эвакуировалась в тыл вместе со школой. Но никто ею не .интересовался, и до самой зимы тысяча девятьсот сорок первого года жили мы с тобой вдвоем. Мать тебя в ту пору не навещала. Кажется, даже не было ее в городе, но об этих месяцах Людмила мне ничего не рассказывала. Вообще она со мной разговаривала немного. Не доверяла, должно быть. Видела, что я ее не одобряю. Женщина должна сама свое дитя воспитывать, а не кидать на соседку, так я говорила тогда, думала, так и по сей день считаю.
В декабре заявилась она наконец. В нашем доме люди форточки пооткрывали, чтобы на нее посмотреть. В замшевой курточке на меху, в белых фетровых ботиках, выскочила она из машины и на крыльцо. За рулем офицер немецкий ее дожидался.
Принесла тебе гостинцев, сахару, печенья, объяснять ничего не стала, дала мне две тысячи марок и сказала, что жить будет в другом месте, а тебя не возьмет: здесь тебе спокойнее. Обещалась заходить раз в неделю, а исчезла на три месяца. От посторонних людей слышала я, что заимела Людмила при немцах большую власть. Генерал какой-то ей покровительствует, и работает она в городской управе, вертит там всеми, как хочет.
Горько мне было это слышать, я ее считала честной, а тут мне передали, что поселилась она в роскошной квартире, ездят туда немецкие офицеры и пьянствуют до утра.
Весной как-то зашла она ко мне ночью. Пропуск у нее имелся круглосуточный. Ты спала. Платье на ней было нарядное и пахло от нее вином. Наклонилась она над кроваткой и в голос зарыдала. Никогда я ее в таком горе не видела. Упала она на колени, руки заломила. Я воды ей подала, а она обняла меня, прижалась и зашептала: «Боже мой, когда же это кончится! Лучше бы мне на белый свет не родиться!» Видно, дошла Людмила Иннокентьевна до края, до самой последней точки.
Потом вытерла слезы, напудрилась и ушла. И снова потеряла я ее из виду на целых четыре месяца. Ты животом болела, измаялась я с тобой и ничего вокруг не замечала.
Денег тех, что твоя мать дала, хватило ненадолго. Занялась я промыслом: пирожки с капустой пекла и на базаре продавала. А муку доставала в обмен на спирт в немецкой военной пекарне.
В начале июля большие облавы по городу прошли. Жандармы врывались в дома, все вверх дном переворачивали. Слух прошел, что арестованы какие-то партизаны, не то подпольщики.
А шестнадцатого августа поздно вечером зафыркала под окном машина. Вылез из нее офицер и постучал в нашу дверь. А я уж сердцем почуяла недоброе.
«Фрау Стеклова? — спросил офицер. — Это есть ваша фамилия? В таком случае имею честь передать вам поручение фрейлейн Зайковской. В настоящее время она находится в тюрьме за совершенное ею преступление, но немецкие власти поступают очень гуманно с теми, кто раскаивается. Фрейлейн разрешено свидание со своей дочерью. Она просит вас одеть ее и привести в тюрьму».
«Господи, горе-то какое! — сказала я; язык у меня словно онемел, шевелю губами, а голоса не слышу. — Когда же идти мне туда?»
«Сейчас», — ответил офицер.
Кое-как одела я тебя, сонную, схватила на руки. Офицер был вежливый, поддержал меня за локоть, помог сойти с лестницы, сесть в машину. Промчались мы по городу, въехали через железные ворота во двор тюрьмы. Тут меня проводили в большую комнату с решетками и велели подождать. Ждала я долго, и ты у меня на руках уснула.
Вдруг вошла Людмила, такая, как всегда, только бледная, села рядом и говорит: «Совершила я ошибку, тетя Зина, связалась с подпольщиками, и чуть меня за это не расстреляли. Но вовремя опомнилась, больше не хочу быть дурой. Жить буду, как все, дочку растить, мужа нового подыскивать, прежнего-то с того света не вернешь. Вообще здесь я научилась правильно на все смотреть. Вы, тетя Зина, за меня не тревожьтесь, я скоро вернусь домой, и заживем мы с вами спокойно… Если вам нетрудно, дайте мне, пожалуйста, Машеньку подержать немного…»
Будить тебя она не стала, взяла на руки, прижала к груди и глаза закрыла. Потом отдала мне тебя и попрощалась: «Ну, вот и все, спасибо, тетя Зина, что просьбу мою выполнили». Встала, поцеловала меня и пошла к дверям, ни разу не обернулась. Вскоре за мной солдат явился, вывел меня во двор, а оттуда за ворота.
Больше я твою маму никогда не видела.
В январе тысяча девятьсот сорок третьего года знакомый солдат из пекарни сказал, что всех подпольщиков казнили. Ходила я в тюремную канцелярию, спрашивала, но ничего толком мне про Людмилу не сказали. Проплакала я о ней не одну ночь, но жить все равно надо было, осталась у меня на руках ты, шести лет от роду.
Зима прошла. Весной тысяча девятьсот сорок третьего года, когда немцы чемоданы стали укладывать, а наши город каждый день из пушек обстреливали, пришел ко мне какой-то полицейский и спросил, тут ли живет Стеклова со своей воспитанницей, дочкой Людмилы Зайковской Машей.
Что-то будто в грудь меня ударило. Поняла, что добра от него ждать нечего. Решили они, наверно, забрать тебя у меня. Еще зимой слыхала я, что немцы после того, как казнили подпольщиков, забрали их детей, у кого дети были, и малых и больших, и увезли куда-то, а может, злодейски убили. Теперь, значит, до нас дошла очередь…
Схитрила я и ответила тому полицейскому, что Стеклова месяц назад померла от дизентерии, а Машу, воспитанницу свою, схоронила еще раньше, в декабре тысяча девятьсот сорок второго года.
К счастью, ты и это время гуляла во дворе.
— Отчего же умерла девчонка? — спросил полицейский и стал записывать иа каком-то бланке мои слова.
— От скарлатины, — ответила я наугад.
Он заставил меня расписаться на листочке и ушел. Я так была перепугана, что в тот же час собрала вещи, схватила тебя в охапку, убежала к одной старой своей знакомой на другой конец города и дождалась там прихода наших войск. Хотела домой вернуться, пришла на свою улицу, а дома-то и не увидела. Сожгли его немцы, когда отступали. Соседей своих бывших я разыскала. Они рассказали, что полицейский еще раз приходил, снова про нас спрашивал, а я соседей-то всех успела предупредить, они ему подтвердили, что тебя и меня уже на свете нет.
Так спаслась я и тебя спасла от большой беды.
Жить мне было негде, и перебралась я в Вознесенск, где получила комнату в бараке. Тут мы и пробыли вместе еще два года, пока не приехал за тобой твой отец Дмитрий Алексеевич, воскресший с того света.
Ну вот, слава богу, добралась я до конца, теперь совесть моя спокойна. Написала, а сама и не знаю, хорошее ли дело сделала. Может, лучше тебе этого не читать?
Мысли мои путаются, не могу придумать, как лучше. Почтой посылать не стану, а пусть судьба рассудит; если приедешь спросить про меня, значит, прошлое в тебе живет и для тебя дорого, тогда прочтешь и узнаешь все про свою мать. Если не приедешь… Ну что ж, будь счастлива, а я свой долг выполнила. Прощай, моя девочка».
Закрыв последнюю страницу, я взглянул на Машу. Она дремала. Я положил тетрадь на столик и вышел в тамбур.
Мы попрощались с Машей на вокзале, в Москве. Вечером из редакции я позвонил ей. Мужской голос ответил:
— Ее нет дома. Это Алексей говорит?
— Да.
— Слушайте, друг, по-хорошему вас прошу, кончайте крутить ей голову!
— Между прочим, Маше один раз уже пришлось извиняться за ваше поведение, — сказал я со злостью.
Тогда я был не прав. А сейчас я прав. Маша мне объяснила, какие у вас дела. Она неопытная, верит, а для вас это только предлог. Любому понятно, что вы вчерашний день ищете. Кому это нужно? Душу ей травите. Зачем ей о прошлом думать? Она должна о будущем думать. Будь вы порядочным человеком, порвали бы свой очерк и бросили в корзину. Подумаешь, писатель! Обязательно вам понадобилось писать о ее матери. Оставьте Машу в покое, слышите? До чего уже дошло: разъезжаете вместе! Это, друг, запрещенный прием. Учтите, я больше церемониться не буду! — Все это было выпалено залпом, и тут же раздались короткие гудки.