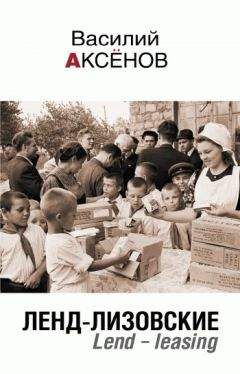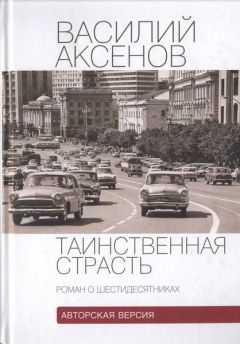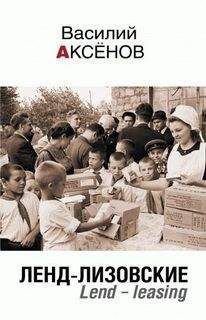Только отдалившись на три квартала от Глубокого озера, она начинает плакать и гладить своего воспитанника по макушке. Еле слышно она бормочет: «Папа сказал, чтобы тебя к бабушке переместили. По стенному телеграфу получил от Жени просьбу, чтобы к бабушке Ревекке…» – И совсем разрыдалась.
Родители Евгении Гинз, Соломон и Ревекка, считались буржуями. До того, как они были таковыми объявлены, считали себя трудящимися интеллигентами. Соломон окончил Харьковский университет по фармакологическому отделению. Стало быть, на него не распространялись ограничения «черты оседлости». Работал он в «Аптеке Льва» и в «Ферейне», то есть в первоклассных заведениях Москвы. Долгие годы супруги Гинз мечтали о собственности. В конце концов скопилась определенная сумма, достаточная для покупки аптеки, увы, не в Москве, а в Булгарах-на-Волге, да к тому же еще поздновато – за год до «катастрофы», в 1916 году. По убеждениям дед был конституционалистом-демократом, по вкусам – британским денди. Соседи по советской коммунальной квартире стучали в ГПУ, что Гинзы прячут золотые монеты в ножках стильной мебели.
И впрямь, когда после разгрома Ваксоновых обрушились с обыском на стариков Гинзов, оперативники взялись первым делом за мебель: ломали хрупкие ножки и перепиливали комодные рамы. В самом деле где-то нашли столбик золотых, но больше ничего. В конце разгрома предъявили ордеры на арест Соломона и Ревекки. Потащили ошеломленных аптекарских диверсантов пролетарского дела.
Соломон осмелился плюнуть в опербригаду и этим предрешил свою участь. За несколько недель в кабинетах – как раз в тех самых, где побывал и Акси-Вакси, – деда забили до такой степени, что у него открылась скоротечная чахотка с профузными кровотечениями изо рта. И вскоре он умер, не сдавшись. Честил ублюдков по-русски, по-польски, по-немецки, пока не пробормотал какое-то заключительное проклятие на иврите.
Бабку, которая за все следствие не промолвила ни единого слова, не били, но слепили яркой лампой и объявили в конце концов душевнобольной. Отвезли по старому адресу на Попову Гору, выбросили чемодан и старуху вытолкали. Котельникам сказали по телефону, что их жидовская родственница дома. Ксения приехала, вымыла полы, собрала из углов длинные космы паутины. Постелила две постели – одну для длинной Ревекки и маленькую для Акси.
Бабка с той поры сидела на покрывале своей кровати в зашнурованных башмаках. Не произносила ни слова. Иногда вставала что-нибудь сварить для мальчика. Того тошнило от ее варева.
«Хочу домой, на Карла Маркса!» – орал он.
Если уж что-нибудь и запомнилось ребенку из варварского детства, это были скособоченные хибары булгарского жилого фонда, перекошенные лестницы, гнилое дерево, лампочки на голом проводе, сортирные будки во дворах. Попова Гора вообще-то вся выглядела на этот лад, и мальчика при виде горбатой улицы, отчасти напоминающей останки не до конца откопанного динозавра, двора, воплощающего свалку нечистот, комнаты, где сидит одинокая, каменная от горя еврейка, охватывали несусветная тоска и протест.
Он сидел на полу, на ошметках дореволюционного ковра, похожих на карту неизвестного архипелага, и выл в потолок, где, скособоченная, висела хрустальная люстра, запоздало познакомившаяся с чекистской пулей.
«Хочу домой, к ребятишкам! Где мои ребятишки, где Майка, Олежка, Галетка, Шуршурчик? Отдайте их! Бяка! Бяка! – кричал он Ревекке. – Где мои тетки, Ксенька и Котя? Где баба Дуня? Где Фимушка моя родная?»
Его не интересовал ни один предмет разрушенной эпохи, еще уцелевший в этой темной комнате: ни напольные часы с неподвижно висевшим маятником, ни настольный гарнитур с двумя тяжелыми чернильницами, ни мраморное пресс-папье, ни скульптурки альпийской идиллии с пастушонком и ягнятками…
В один из таких дней несчастная пятидесятивосьмилетняя старуха поднялась со своей кровати и сделала несколько шагов к внуку. Положила ему обе темные, дубового цвета ладони на макушку: «Все здесь, мой мальчик, все живы. Кроме Соломона» – и заплакала.
Акси-Вакси завизжал: «Ты бяка, бяка! Не трогай меня!» – и стал кусать ее сухие руки.
В это время послышались шаги вверх по еле живой лестнице, и в комнату вошла молодая цветущая женщина в берете и с сумочкой на сгибе руки: не-у-же-ли-ма-ма? Он чуть было не закричал, но не закричал. Похожий на отца оказался братом отца, дядей Андрюшей. Похожая на мать может оказаться сестрой матери, то есть тетей Талой.
«Талочка! Талочка!» – Ревекка задрожала в каком-то оздоровительном трепете. Две женщины слились в неразлучном объятии.
Акси-Вакси вдруг стало стыдно, что он кусал бабушку. Он хотел было заползти под кровать, но тут его внимание было отвлечено еще одной персоной. На пороге стоял мальчик то ли его возраста, то ли на год моложе. Смуглый, глаза – как орехи. Дул губы. Вот так на всю жизнь стали они братьями-кузенами: Вакси-Акси и Димка Князев, сын Натальи Гинз.
Почти немедленно они занялись игрой, в которую помимо перечисленного выше вовлечены были многие другие предметы, а в частности, фармацевтические весы, гирьки и разновесы, чаши и ступки для растирания порошков, три различных портсигара, один с орлом, другой со змеей, третий с парусником, костяной нож для разрезания бумаг, две полусферы земного шара, фотоальбомы с добротными картонными страницами, на которых в дугообразные щели вставлены были фотографии Франции и Швейцарии с молодыми Соломоном и Ревеккой в качестве персонажей. Ребята увлеченно ползали под столом и между покалеченными креслами и иногда натыкались лбами друг на друга.
В один из таких моментов в глубине комнаты, где все еще обнимались и плакали друг дружке в жилетку старая и молодая женщины, прозвучал быстрый обмен вопросом и ответом.
«А что Князев? – спросила Ревекка. – Жив?» «Расстрелян», – коротко ответила Наталья.
Мальчишки уставились друг на друга, и Димка прошептал не без некоторой гордости: «Это про моего папу».
Каждый день они придумывали какую-нибудь новую игру, и в общем-то Акси-Вакси перестал вопить на весь околоток: «Хочу домой на Карла Маркса!» Тетя Тала получила преподавательскую должность в финансово-экономическом институте. Ее стал провожать с работы большой и быковатый доцент со странной фамилией Примавера. В общем, жизнь так или иначе начала пускать свои корешки. Бабка Рива даже выбиралась на соседний рынок за творогом. Этот рынок находился на задах хорошо известного в Булгарах завода «Пишмаш». Из ворот там выезжали грузовики с ящиками, на которых был отштампован просветительский советский продукт. Милиционерам дан был приказ прислушиваться к базарным разговорам: иным бабам невтерпеж было разнести слух, что вместо пишущих машинок завод производит пулеметы «Максим».
Довольно часто Ревекку провожала туда Ксения. В таких случаях можно было взять с собой и мальчишек. И угостить их леденцами-петухами на палочках. Ребята ликовали от такой огромной сласти. Еще пуще они ликовали, когда на базарчик закатывала свою тележку мороженщица. Ваксик и Димка старались не проморгать ни малейшей детали в изготовлении райского лакомства. На дно жестяного стакана укладывалась большая круглая вафля. Из бидона зачерпывался половником комок морозной жирной массы. Жестяной стакан раскручивался и производил кругообразную, по границам вафли, ванильную котлетину. Сверху котлетина накрывалась еще одной вафлей. Еще несколько оборотов – и мороженое готово. Тогда они оба хором восклицали: «Восторг и упоение!»
Однажды, вместо того чтобы совершить очередной поход на базар, тетя Ксения схватила Акси-Вакси за руку и повлекла его совсем в другом направлении – к Крепости.
«Куда ты меня тащишь?» – воскликнул мальчик. «Молчи, Ваксюша, – шепнула она ему на ухо. – Идем к папе!»
Крепость была окружена слободой каких-то нежилых строений. Прокрутившись по пыльным переулкам, они вышли в длиннющую улицу, что тянулась вдоль глухой стены с одной стороны и другой стены с проволокой. Вдоль глухой стены строения тянулась очередь в несколько сот людей. Большинство сидело на земле, прислонившись к стене. Женщины вязали бесконечные пряжи, кое-кто читал книги, кто-то дремал с провалившимися ртами. Никто из этих женщин не разговаривал друг с дружкой. Черный раструб радио гнал бодрящую музыку вроде:
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.
Эта песня на долгие годы стала для Акси-Вакси символом советского ужаса. Только став взрослым, он узнал, что бодренькая мелодия сочинена Шостаковичем для кинофильма «Встречный», но даже и тогда он не мог понять, что за мрак курится в словах о какой-то «кудрявой», которая «не рада веселому пенью гудка». Только еще позже выяснилось, что слова были написаны поэтом Борисом Корниловым. К тому времени, когда песня оглушала и пугала пятилетнего мальца, Борис Корнилов был уже расстрелян как враг народа.