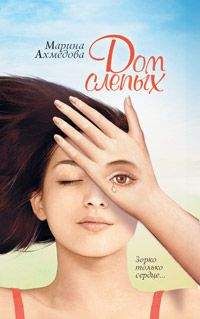Ознакомительная версия.
Марине было к кому и куда – это-то Люду и раздражало. Марина осталась. Люда бы на ее месте сбежала, оставив слепых дожидаться автобуса. Героизм Люды-поводыря был вынужденным – этого-то она и не могла простить Марине. Люда осталась лишь потому, что ее никто и нигде не ждал. Ей больше всех было не надо…
– Тебе, выходит, больше всех надо? – зло прошептала она.
– Всю ночь я думала-гадала – что делать. Надеялась, он здесь не задержится и уйдет. Но после того, как он стрелял в Фатиму, я поняла – нужно что-то предпринять, и сделать это немедленно.
– Например что?
– Я пыталась понять – что ему от нас надо?
– Ну и как? Поняла?
– Нет, но я надеюсь его убедить оставить нас в покое.
– Как?
– Я кое-что придумала.
– Безумству храбрых поем мы песню…
Если бы Люда была здесь главной, все бы пустила на самотек. Первым делом, рассказала бы слепым об опасности и попросила не выходить без серьезной надобности. Вторым – сократила бы порции еды так, чтобы хватило на дольше. Но она не стала бы предпринимать радикальных действий. Бравада Марины понукала к героизму и ее, а Люда по природе героем не была. Но вот поступки Марины заставляли ее вступать в диалог с совестью, а та, разбуженная, начинала толкать на глупости.
– Просто подумай о том, что в один прекрасный день или ночь он может войти в подвал и всех нас перестрелять. И вот этот кирпич не будет ему помехой, – Марина пнула кирпич.
– А ты подумай о том, что он может быть обычным сумасшедшим, шизофреником, ни на чьей стороне. Добыл винтовку и стреляет по кому ни попадя. Война – все можно… Ты попытаешься с ним договориться? Но с сумасшедшими не договариваются. Ты всех меряешь своей меркой. Думаешь, все на тебя похожи. Раз ты смелая, то и я должна. Ты разумная, и он должен внять голосу твоего разума. А тебе никто ничего не должен! Получишь пулю в лоб и будешь валяться там наверху до второго пришествия…
Марина скомкала простыню.
– Сумасшедший… Тем хуже для нас.
Она открыла дверь и вышла. Люда придержала дверь ногой и смотрела Марине вслед. Пока ей была хорошо видна ее узкая спина и острые лопатки, выпирающие из-под жилетки.
Шум шагов стих. Люда захлопнула дверь, перерезав полоску света, идущую из подъезда.
– Пойду посижу, – вздохнула она.
Мебель оказалась цела. Марина нерешительно присела на край диван, словно была гостьей в собственном доме. Кроме нее здесь никого не было, и вся ее решительность испарилась, едва она переступила порог.
Окно задернуто плотной шторой – зеленой, бархатной, такие только начинали входить в моду. Марина не помнила, кто ее задернул. Она сама – кроме нее некому.
Ей хотелось остаться здесь навсегда, никогда больше не спускаться в подвал и просидеть вот в этой самой позе – до второго пришествия, как сказала Люда. Но время шло – пора было подумать о подопечных. Жаль, время не могло замумифицировать ее.
Погладила полосатую обивку дивана. Он раскладывался, но радостных воспоминаний не навевал. В понимании Марины от всех вещей исходили нити, связывающие их с воспоминаниями. Эти воспоминания определяли энергетику вещей. Например, одна нить вела к воспоминанию о том дне, когда Марина купила этот дефицитный диван, изготовленный в ГДР. Светлый день, удачная покупка… Другая – к воспоминанию о старом Али. Частенько сидел он на этом диване с дымящейся чашкой чая и изрекал одну старческую мудрость за другой. Третья – к воспоминанию о том, как Марина раскладывала этот диван, застилала его хрустящей простыней и спала – чистая в чистоте. Вот и все. Больше ничего не вспоминалось. Правда, нитей было больше – они вели к воспоминаниям о ее мечтах, связанных с диваном. Но мечты, тоже внеся лепту в энергетику дивана, не сбылись, и говорить о них сейчас нечего.
Снайпер ее не видит – на окне штора. Марина еще посидит, потом встанет, подойдет к окну и отдернет штору. А он среагирует на ее шевеление.
Она встала, но пошла не к окну, а к полированному шкафу. Открыла дверцу. Ухватила из стопки белья одну простыню – самую нижнюю, чисто-белую. Взмахнула – простыня распустилась, накрыла Марину. Она прижала ее подбородком и приподняла пальцами один край – безупречно белая, свадебно чистая.
– Боже мой, – вздохнула она.
Марина заметила, как из-под стопки вылетела желтая картонка, но не сразу наклонилась за ней.
Задержала взгляд на чужом бумажном лице и ничего не почувствовала. Диван был не связан нитью воспоминаний с фотокарточкой. Ничего никогда не было. Жизнь прожита в мечтах. В придуманных историях часто живут реальные персонажи. Марина управляла персонажем в мечтах – его поступками и словами. В реальной жизни он никак не реагировал на ее шевеления. Но история продолжалась до тех пор, пока чувства не вышли… А может быть, и сейчас продолжается… Где герой, куда его занес ветер перемен, налетевший на город, Марина не знала. Но мечта легко могла перенести его сюда – на полосатый диван.
Слезы наворачивались на глаза, едва встречалась взглядом с бумажным лицом. Но это было раньше. Время-то вышло. Время низвергло в подвал, а подвал приучил экономить влагу. Подняв фотографию с пола, Марина ждала слез…
– Боже мой, – вздохнула она.
Вернулась на диван. Закрыла лицо руками. Где грусть? Где слезы? Где клюющее знание – у мечты нет конца и нет края. Не сбудется она – никогда.
Шорох на лестнице. Показалось… Нет, точно шорох…
– Чернуха?
Так могли шуршать только тапочки старого Али. Но оттуда, куда он ушел, не возвращаются. Впрочем, туда, где была Марина, не возвращаются тоже.
С тех самых пор, как Марина поселилась в доме слепых, а случилось это давно, Али носил одни и те же тапки. Казалось, им никогда не сноситься. От времени и от частой ходьбы их кожаная подошва стала гладкой. В тапках можно было кататься по выкрашенному полу.
Или лестница шуршит? Отдает в тишине звуки шагов прежних жильцов. Дом затих, не слышны голоса. Пришло время, и лестница выпустила звуки, которые бережно сохранила в прежние времена. Может ведь быть такое?
В замочной скважине звякнул ключ. Шаги по гладкому линолеуму.
Марина прикрыла глаза.
– Входи, – привставала с дивана.
Али вошел сгорбленный, неся припухлость на спине, – горб появился в старости. Двадцать лет Марина провела со слепыми. Двадцать лет назад она была молодой. Али – уже старым. Долгие годы Марина зрячими глазами следила за тем, как слепые жильцы дома сгибались – время опускало на них свою руку и придавливало к земле. Но горб вырос у одного Али, значит, на его спине время дольше держало руку и давило сильней.
Али прошаркал к дивану. Сев, он принял ту же нерешительную позу, что и Марина, – неловко соединил колени, неловко оперся о подлокотник. Как и она, он был здесь гостем. Давно не виделись.
– Здравствуй, Марина…
Ничто в нем не изменилось – потертый жилет, бархатный, как ее занавески, только не зеленый, а фиолетовый. Полосатые брюки-мешки. Вид еще сносный. Глаза? Не выцвели, нет, наоборот, стали ярче.
– Я тебя не ждала.
– У тебя нет времени ждать, – его локоть съехал с подлокотника.
Али забрался глубже в диван.
– Зачем явился? Рассказать о конце?
– У конца нет конца. Края у него тоже нет. Но пришел не за тем, – Али повернулся вполоборота. – Но раз уж ты сама заговорила о конце, позволь, расскажу, что видел… Там, где кончается одно, начинается другое. Конец и начало – одна точка. Из конца вытекает начало, из начала – конец. Между ними нет ничего. Пустоты нет. Пустота живет только в человеке.
Марина слушала его знакомый голос, и ей казалось, что и у слов, произнесенных старым Али, нет ни начала, ни конца. Соединившись, они составили круг, и Марина не знала, в какой его точке начинается смысл.
– У всего есть конец, Али. Все когда-нибудь кончается, – заговорила она, не открывая глаз. – Вспомни наш последний разговор в библиотеке. Ты говорил, у тебя нет времени ждать, нет времени надеяться, нет времени мечтать. Не наступил ли конец, когда твое время вышло?
– Мой конец наступил для тебя, – глаза Али блеснули. – Всю жизнь я был слеп. Для меня существовало лишь то, что я мог потрогать вот этими пальцами, – он поднес к лицу свои твердые коричневые пальцы, Марина протянула руку, коснулась их – каменные. Но зачем он поднес их к лицу? Он ведь слеп… Или уже нет? – Ты трогаешь меня, а я – твердый. Значит, я есть, не кончился, не вышел, – продолжил Али. – Так-то…. Ну, говорили мы в библиотеке. Помню я наш разговор. Только ни он, ни библиотека к истине отношения не имели – это я только потом понял… Брал книги в твоей библиотеке, читал. Вспомни – читал помногу, прощупывал по сто листов в день, а-то и больше. И вот что я теперь тебе скажу – книги были, а все, что в них, – нет. О чем они рассказывали мне? О любви, о желаниях, о страданиях. Но ни того, ни другого я пощупать не мог. Где они – любовь и страдания? Чем они пахнут? Какой формы? И не говори мне о духовном, о нематериальном. Слушать не желаю. Теперь я – другой. Теперь сам могу сказать… Вот послушай, только не обижайся. Ты любила? Любила. Не отрицай. Страдала? Страдала, да, я знаю. Любил ли он, тот, с фотографии? Нет. Страдал? Нет. Так вот и не было ничего. Любви не было. Не спорь. Дай договорить… А если б было, то взяла б ты свою любовь, отнесла бы к нему, разделила поровну и сунула бы половину ему в руки. Только нечего тебе было делить. Нельзя взять то, чего нет, и вложить кому-то в руки. Не почувствует он ничего. Так-то… Запомни – делюсь: все только в тебе, вовне ничего. Так и конец – он в тебе. А где он вовне? Вовне его нет…
Ознакомительная версия.