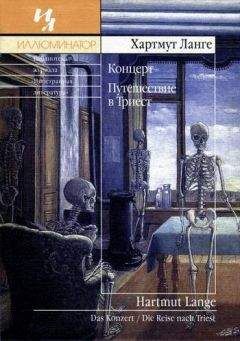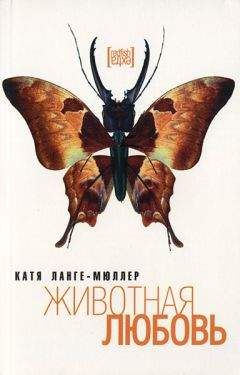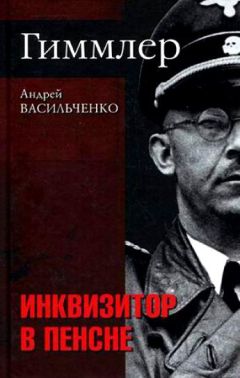Еще мальчиком, в том возрасте, когда любопытство заглушает все другие жизненные проявления, он частенько задумывался о том, что ждет его после смерти, и даже находил удовольствие, представляя, как будет проходить сквозь любые знакомые предметы. Временами ему хотелось превратиться в тополь, листву которого всегда приятно теребил свежий ветерок. А то завидовал чибисам, неизвестно зачем перелетавшим с одного заливного луга на другой, будто их подгоняла неведомая сила.
«Когда я умру, — фантазировал он мальчиком, — то окажусь сразу везде, а значит, среди них».
Левански даже не заметил, что подошел слишком близко к кромке воды, и насквозь промочил ботинки. При виде нависшего над водой ствола ольхи ему захотелось повисеть и покачаться на нем над тем местом, где устроили игривую потасовку утки лысухи. Забыв обо всем, он влез на дерево и, балансируя, добрался до середины ствола. Озеро здесь было глубоким. Ствол под его весом нагнулся еще больше, и он понял, что стоит лишь протянуть руку, и он дотянется до птиц… Но они вдруг вспорхнули и, как ему показалось, излишне громко хлопая крыльями, перелетели на противоположный берег. Совсем недалеко от того места, где они приземлились, стоял человек и наблюдал за Левански. Он был в военной форме со знаками отличия, которые слабо отражались в воде. В том, что это была за личность, сомнений не возникало.
«Как же так! — чуть ли не взмолился Левански, с трудом удержавшись на своей ненадежной опоре. — Мало того, что вы меня убили, так теперь будете преследовать и после смерти?» От возбуждения Левански потерял равновесие и одной ногой оказался в воде. От этой неудачи он расстроился еще больше, отломал ольховую ветку и, угрожая ею, бросился на человека в военной форме с твердой решимостью проучить его, если тот сию же минуту не скроется. В несколько прыжков Левански достиг своего противника; чтобы сократить путь, он бросился напрямик, туда, где еще можно было пройти, топча без разбора ростки ситника и камыша и не боясь запачкать одежду.
Однако его противник и не думал ретироваться. Даже когда Левански налетел на него с палкой, он продолжал стоять не шелохнувшись и не делая попыток защититься. Левански сбил у него с головы фуражку, но тот не обратил на это никакого внимания. Он лишь изобразил на лице удивление и после некоторых колебаний решил все же уклоняться от ударов, которые Левански наносил обеими руками. Иначе пианист просто-напросто повалил бы его на землю. Противник попытался выиграть дистанцию, для этого ему пришлось войти в воду. Он медленно пятился назад, поскольку Левански следил за всеми его движениями, лицо его кровоточило, но в такую минуту это, по-видимому, казалось ему не самым важным. Оказавшись по колено в воде, он остановился. Здесь Левански уже не доставал до него. Пуговицы на кителе расстегнулись, но он и рукой не пошевелил, чтобы привести себя в порядок Его лицо выражало полнейшую покорность судьбе, он безропотно смотрел, как Левански, вне себя от возмущения, начал швырять камни. Один из них попал в цель, и человек в мундире осел на колено.
Он старался при этом держать голову высоко, по крайней мере над водой. На шее у него был отчетливо виден глубокий кровоточащий рубец. Заметив рану, Левански испугался. На мгновение его охватило неподдельное раскаяние, настолько сильное, что он слышал биение собственного сердца.
— Его казнили, — прошептал он, уставившись на недруга, которого только что желал утопить, словно тот являл собой апокалипсическое видение.
— Его казнили, — повторил Левански и безвольно выпустил из рук свое недавнее оружие. И когда он решил не мешкая бежать прочь, поскольку не мог вынести вида сильно кровоточащей раны, ему стало дурно и он вынужден был подыскать себе опору — столь велико было смешанное с отчаянием потрясение от того, что он, не обидевший за всю жизнь и мухи, оказался способным побить другого человека. Дабы окончательно не потерять самообладания, Левански решил не под даваться искушению взглянуть на то, что происходило в воде за его спиной. Отойдя от озера на приличное расстояние, он замедлил шаг и решил обождать, полагая, что тот выберется из воды и последует за ним. Молодой человек убеждал себя, что ударить тень — отнюдь не преступление.
Добравшись до особняка на Кёнигсаллее, он прислонился к входной двери и ждал до тех пор, пока не удостоверился, что интуиция его не подвела: неподалеку от гаража в самом деле обозначилась человеческая фигура. То был человек в военном мундире. Он приводил в порядок свою одежду: поправил ремень на поясе и пытался застегнуть на все пуговицы намокший китель, который теперь стал заметно уже. Когда в конце концов это ему удалось, он провел ладонью по лицу, пригладил волосы и надел фуражку с кокардой. Все это время он стоял вполоборота к Левански и вел себя, как обычно ведут себя люди, несправедливо обиженные, униженные, те, кто не в состоянии ответить тем же и с видом кроткой жертвы терпеливо сносит все оскорбления.
Левански поднялся на второй этаж, открыл окно, вдохнул полной грудью и почувствовал разлившуюся вокруг тишину. Тот, другой, достал сигарету и попытался ее зажечь, но безуспешно. Было видно, что он дрожал в мокрой, но снова безупречно сидевшей на нем форме.
«Виновные будут посрамлены, — подумал Левански. — Он был осужден, но смерть не принесла ему даже надежды на искупление».
С этой мыслью молодой человек решил проверить, увидит ли он с такого расстояния в надвигающихся сумерках кровавый рубец на шее чужака, но так и не смог ничего разглядеть.
На юго-востоке, там, где свалили несколько сосен, взошла луна, оранжево-красная, и исходивший от нее свет создавал ощущение теплоты. Левански вздохнул с облегчением и вернулся в комнату, так как и ему стало зябко. Мгновение он пребывал в задумчивости, затем снял ноты с табурета, сел и начал играть, зная, что тот, кому это так необходимо, его сейчас слушает.
Миновала Пасха, и концерт нельзя было дольше откладывать. Фрау Альтеншуль закончила последние приготовления, и, стало быть, ее участие на этом завершилось.
— Зал слишком большой, — заявила она, — не знаю, будет ли слышно на задних рядах?
— Тут вы можете не беспокоиться, — ответил Либерман. — Все получилось, как вы хотели. Вы вправе гордиться тем, что ваш друг наконец-то вышел из добровольного заточения и обратился к такому обществу, которое, если верить прогнозам, не вместит никакая филармония.
Молва о необычном концерте пианиста Левански достигла Праги и Лондона. Несмотря на то что фрау Альтеншуль протестовала против любой рекламы, все знали: в Берлине, городе, от которого едва ли кто ожидал сенсаций, готовится нечто неслыханное. Некий высокоталантливый еврейский пианист, убитый нацистами в молодые годы, намерен бросить вызов судьбе и карьере музыканта, которая, собственно, и стала причиной его столь ранней смерти, и наверстать упущенное посмертно.
Эта весть разнеслась как молния, и еще до полудня — хотя концерт был назначен на девять вечера — кассовый зал филармонии заполнили все, кто еще надеялся попасть на выступление. Но их дело было безнадежно, и они переместились в ближайшее кафе, где горячо обсуждали вопрос: почему нельзя транслировать концерт по наружным громкоговорителям?
Среди желающих послушать пианиста преобладали молодые люди, среди которых были и наголо остриженные девушки — они, по их уверениям, собираются ходить так до тех пор, пока им не докажут, что это нанесенное им перед смертью унижение заглажено. Девицы были настроены скептически и беспокойно сновали из угла в угол.
Когда Старая филармония зажглась огнями, часть публики перешла к служебному входу, куда, как ожидалось, подъедет машина Левански, но там никто не показывался, хотя до концерта оставалось менее часа. В артистической уборной хозяйничала фрау Альтеншуль. Она попросила ее не беспокоить, однако из-за всеобщего возбуждения эта просьба оказалась невыполнимой. То и дело приходилось принимать поздравления и, конечно же, цветы — разве объяснишь этим настырным энтузиастам, что все эти восторженные охи и ахи могут помешать пианисту собраться перед игрой. А он должен был вот-вот появиться.
Последним подошел Либерман и, смущенно откашливаясь, сообщил, что филармония походит на осажденную крепость, и хотел было вернуться в зал, однако все его многозначительные взгляды на фрау Альтеншуль и даже недвусмысленный жест, каким он предложил ей руку, чтобы наконец проводить в ложу — время уже поджимало, — не произвели никакого эффекта. Она хотела самолично убедиться, что Левански будет одет к выступлению «как надо», в частности, чтобы на плечи был накинут белый шелковый шарф, — это придало бы его выходу особую торжественность.
Об остальном, заверила она, можно не беспокоиться, и в качестве неопровержимого доказательства процитировала записку, полученную от Левански пару дней назад: