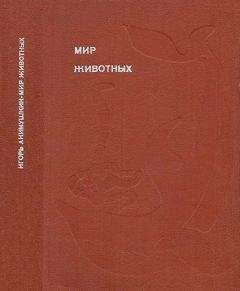Он чувствовал, как замирает сердце, а лицо пунцовеет от холодного ужаса, что после такого он мог испытывать праведный гнев против Инги (а теперь против Верки), в чем-то упрекать ее! А в чем? А в том, что она знаменитостей любит, приглашает в гости бывших Левиных приятелей, ныне авторов модных книг, статей и скандально-шумных диссертаций, в том, что Леву пилила за пьянку, приводила в пример друзей и однокурсников, говорила, что даже с Гришей он перестал общаться, потому что Гриша что-то делает, а он, Лева, нет, а потому и почва для общения пропала. А ведь все это было оттого, что на самом-то деле она гордилась им, верила в него. Ему уже потом, после его ухода, рассказывали, как в случае каких-либо споров она сразу говорила: «Надо у Левки спросить, он все знает, он объяснит». — «Он что у тебя, в самом деле все знает?» — удивленно спрашивали ее. «Почти все, — с гордостью отвечала она. — А мне так кажется, что совсем все». Она ведь любила меня, думал Лева, да и до сих пор привязана. За совместные годы она привыкла, что он — есть, что все же в возрасте, когда друзей становится все меньше, они друг для друга надежная опора. А как она с ним вместе выбирала ему костюмы, следила за ним, покупала рубашки, вязала свитера, вывязывая всевозможные сложные узоры! Как беспокоилась за него, когда его отправляли в дальние командировки, за его жизнь, за его здоровье! Как сама была нетребовательна по части всякого женского барахла, ничего на себя почти не тратила! И вот он бросил ее, она — оставленная жена!.. Это с ее-то гордостью и неустроенностью внутренней! Он вообразил ее маленькую фигурку, худенькие плечики, длинное серое шелковое платье, ее любимое, опущенную голову с пучком волос на затылке — облик курсистки, народоволки, женщины духовного служения, не думающей о быте, и снова проклял себя, свою распущенность, расхристанность, пьянство, плотоядность, неумение собраться, отсутствие внутренней дисциплины и даже хоть маленького фермента карьерности, чтоб твердо стоять на ногах. Лева вдруг быстро открыл портфель, сунул туда руку и вытащил тимашевскую книжку о Горе-Злочастье. И прочитал, со страхом, чуя душой сходство ситуации:
Ино зло то Горе излукавилось,
во сне молодцу привидялось:
«Откажи ты, молодец, невесте своей любимой
— быть тебе от невесты истравлену…»
Лева вспомнил злую шутку Кирхова, что Верка его подтравливает, с дрожью в руках и болью в глазах продолжая читать дальше:
«…еще быть тебе от тое жены удавлену,
из злата и сребра бысть убитому.
Ты пойди, молодец, на царев кабак,
не жали ты, пропивай свои животы,
а скинь ты платье гостиное,
надежи ты на себя гунку кабацкую,
кабаком то Горе избудетца,
да то злое злочастие останетца:
за нагим то Горе не погонитца,
да никто к нагому не привяжетца,
а нагому-босому шумить розбой».
Действительно, Лева боялся своего «злата-серебра» — стеснялся своего умственного превосходства, своей начитанности, своей культуры, боялся, что его более малограмотные одноклассники, а потом однокурсники будут ему завидовать, хотел опроститься, да, именно это слово: «опроститься». А они теперь кандидаты и доктора, по-прежнему ходят к нему за советами, он переписывает по старой дружбе их статьи, но они возвращаются на свои уютные кафедры и в свои высоконаучные сектора, в теплые квартиры к обожающим их глупые головы женам, а он, Лева, пропив на второй уже день ползарплаты, едет куда-то в снятую комнатенку на Войковской, с чужой мебелью, чужой постелью, чужим бельем!..
Лева в испуге спрятал книжку на прежнее место и захлопнул портфель, уставившись в окно. Но дома, кусты, мелькавшие за окном, он не видел, он переживал. Как он любил в юности гусарство, удаль, быстроту и лихость загула и, напиваясь, казался себе таким же свободным, как лихие гусары, которые приходят во снах. И гитара!.. Но на гитаре играла и пела под нее тимашевская жена Элка, и это тоже раздражало Леву, усугубляло его неприязнь к Тимашеву: почему одному все, а другому и половины нет. У того и бабы, и веселая жена с гитарой, и статью нашумевшую о «профессорской культуре» написал, а Оля-машинистка небось ему еще и бесплатно его опусы перепечатывает… Как он успевает все!.. Как эти гусары и купцы чего-то успевали!.. Ведь после загула приходит похмелье, а после похмелья новый загул… Когда же дело-то делать? Впрочем, воевать да торговать, наверно, особой усидчивости, тем более книжной, не требовало!.. Лева понурился.
А сколько гадостей с похмелья наделаешь, потом сто лет не расхлебаешь, — мысль Левина прыгала с предмета на предмет, подчиняясь не логике, а каким-то внутренним эмоциональным зацепкам и связям. Зачем Олю обидел? — каялся он. Высокая, стройная, темноволосая, с тонким лицом, длинными пальцами, она была рождена для лучшей доли. Кончила музыкальную школу, собиралась поступить в консерваторию (это Лева краем уха слышал), но пошла в машинистки. Почему? Ах да, отец умер, мать по инвалидности на пенсии, она поздний ребенок, пришлось идти зарабатывать — вот и попала по знакомству в редакцию. Хочется ей, конечно, замуж, под простыми, но искусно пошитыми платьями Лева сладострастно прозревал молодое плотное тело, но замуж никто не берет, прямо Лариса Огудалова из «Бесприданницы»… Да и вряд ли она найдет себе мужа среди женатых мужиков в редакции. Наверно, она и сама это понимает, на судьбу обижена, а любви хочется, вот и крутится возле Тимашева!.. А он, Лева, ну не сукин ли сын! Брякнул ей, что мужа она не найдет, то есть то, что ей хоть на время забыть хочется!.. «Какая же я гнусь, — думал Лева. — Старый уже мужик. Должен же быть поснисходительнее, мудрее, не меряться неудачливой судьбой с молоденькой девчонкой и не срывать на ней своего раздражения. Ведь я же мужик, уж мог бы сам себя воспитать». Нет, все же у него и впрямь распадное интеллигентское сознание, да, интеллигентское, с самого детства чувство вины перед всеми, потому и пил, чтоб стать таким, как все, стыдился выделиться, выйти из ряда. Но что-то двусмысленное было в его чувстве вины.
Он вспомнил, как в детстве мать оставила ему рубль, на случай, если придет слесарь чинить кран на кухне, чтоб отдать ему. Слесарь пришел, кран починил, но рубль Лева ему не отдал, справедливо полагая, что от тринадцатилетнего мальчишки тот денег не ожидает. Рубль же Лева зажал на свои мелкие расходы. Вечером пришла мать со своим братом, Левиным дядей, у которого старшая дочка тоже в честь отчима была названа Леопольдиной (в семье девочку звали Полей). Дядя был директором большого кинотеатра, был толст, важен, грубоват и прямолинеен. Мать спросила, приходил ли слесарь и отдал ли ему Лева деньги. Зажимая деньги, Лева надеялся, что мать не задаст второго вопроса, потому что был не способен, не умел врать ни при каких обстоятельствах. Сейчас увидел он себя тогдашнего, маленького, дрожащего (он уже лежал в постели, укрытый мохнатым верблюжьим одеялом в белом пододеяльнике), увидел, как покраснел, похолодел, а потом сказал, из красного становясь бледным, что он забыл отдать рубль, потому что тот лежал на столе в комнате, а слесарь был на кухне, что, когда слесарь уже ушел, он схватил рубль, чтоб его догнать, но не догнал, и теперь рубль лежит в кармане его штанов. Мелкая ложь! Но все же не такая страшная, как если бы он утаил деньги. Лева даже привскочил, сказал, что сейчас оденется и пойдет искать слесаря, чтоб отдать ему этот рубль. Начал даже рубашку надевать. Но мама поцеловала его и остановила, а дядя, видимо не поверив ни единому Левиному слову, неприязненно покосился на него и махнул рукой: «Ни к чему! Это все интеллигентские выкрутасы и самооправдания, игра на публику, чтобы другие тебя оправдали. Ты это дело брось, Леопольд! Это плохая привычка. Украл, — ну ладно, не украл, утаил, — утаил рубль, так хоть перед нами не выдуривайся, а главное, перед самим собой. А то — бежать, говорить, извиняться-извиваться. Лучше сразу делать правильно, а сделав неправильно, неправильное исправлять делом, а не словами!» Дядя был зло прав, и Лева влез снова под одеяло, съежился и дал себе слово поступать всегда так, чтоб потом не раскаиваться, во всяком случае не произносить потом горячих самообвинительных слов и не бить себя в грудь. Но всю жизнь только этим и занимался. Сначала делал и говорил гадости, а потом раскаивался и просил у обиженных прощенья. И все считали его при этом за порядочного, слабого, но в конечном счете нравственного человека, Лева от этого ненавидел себя еще сильнее.
За похмельным самобичеванием он чуть было не проехал нужной остановки. Но все же вовремя спохватился, выскочил. Огляделся. Уникальный деревянный павильон — прибежище от дождя для ожидающих трамвай — с ложными колоннами, прикрепленными прямо к стене, стоял там же и так же, как двадцать пять лет назад. Лева посмотрел на часы. Половина третьего. Он пошел между кустами, разросшимися за годы, что он сюда не ходил, дорожка привела его к пятиэтажному — «профессорскому» — дому, где жил Гриша. Он обогнул его со двора, вошел в знакомый широкий подъезд и поднялся по давно знакомой и, как ни странно, не забытой широкой лестнице с каменными ступенями. Знакомая дверь была все так же обита дерматином, только наискосок по дерматину шел разрез — очевидно, работа пришлой шпаны. Разрез был зашит суровой ниткой. Чувствуя тяжесть на душе от прошедших мыслей и противный, похмельный привкус во рту, Лева набрался духу (потому что немного боялся встречаться с Аней) и позвонил.