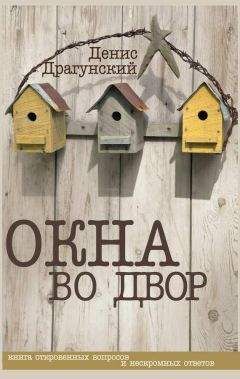Но еще реже Прохоров задумывался о том, как она к нему относится, потому что тут выходила одна довольно неприятная для него вещь. Нет, нет, она охотно общалась с ним, искренне и радостно улыбалась навстречу, и даже в ее фырканье и грубости была только откровенность – вот она я, вся как на ладошке. И в разных административно-технических переделках она была всегда на его стороне, была, можно сказать, нелицемерно предана своему шефу – Прохоров имел несколько случаев убедиться в этом. Одним словом, она относилась к нему прекрасно, а может быть, даже еще лучше, чем мог себе представить Прохоров, но – просто как к хорошему человеку. «Хороший человек, – случайно подслушал он, как Санчукова говорила с программисткой. – С ним вполне можно в кино сходить». – «На последний сеанс?» – «Сама дура!» – засмеялась в ответ Санчукова. Прохоров был уверен, что это про него. Значит, она воспринимала его просто как хорошего человека, может быть, как привлекательного мужчину, пусть даже как завидного любовника, пусть как вымечтанного возлюбленного, пусть, пусть, пусть, но все это – не то! Не то, потому что она не видела, не ценила в нем того, что он сам в себе ценил превыше всего остального – она совершенно не видела в нем ученого.
А ведь дома – и в родительском доме, и в его собственной семье – главным предметом обожания был именно научный талант Прохорова, его успехи, его научная карьера и все связанное с этим, начиная от защит и публикаций и кончая разными приятными мелочами – кабинет, книги, вертящееся кресло, стаканы с карандашами на обширном письменном столе, священная тишина, когда он работает. Да что там – жена совершенно серьезно собиралась привинтить к двери медную табличку «профессор Николай Борисович Прохоров» – разумеется, после получения соответствующего документа из ВАКа. «Только воров приманивать! – хохоча, отмахивался Прохоров. – Подумают, что я гинеколог и богач, профэссор! Не вздумай!» Но, честно говоря, было все-таки приятно видеть к себе такое отношение. А вот Санчукова как будто специально избегала разговаривать с ним на профессиональные темы. Ни вечером по телефону, ни днем на работе. «Что читаете?» – «Так, ерунду» – и она захлопывала журнал. «Чем занимаетесь?» «Так, ерундой» – и она отодвигала тетрадку и доставала сигареты. «Ну, что ныне туманит ваше чело?» – спрашивал Прохоров, войдя к ней в комнату и увидев, что она смотрит в окно и зло грызет карандаш. «Так, ерунда», – криво улыбалась она. Впрочем, Прохоров надеялся, что через год-полтора она окончательно ему доверится, и тогда можно будет с ней обсудить одну занятную проблемку, которая еще с аспирантских времен туманно вертелась в голове Прохорова. Но когда еще это будет, а пока была обида, обида росла и должна была во что-то вылиться.
Что и произошло. Все началось с того, что к концу четвертого года прохоровского руководства все сотрудники группы оказались с кандидатскими степенями, и в дирекции института Прохорову сказали, что пора выводить кого-нибудь и на докторскую. Не колеблясь, он назвал Санчукову. Получив высокое согласие дирекции, он поспешил обрадовать Санчукову и сказал, что в обозримом будущем ждет ее с наметками-набросками или с заделом, если таковой имеется.
Назавтра она положила ему на стол тонкую папку. «Наброски-наметки, – объяснила она. – Ну, в смысле задел». «Присядьте», – неодобрительно сказал Прохоров.
Она села, пододвинула к себе пепельницу, вытряхнула из нее горелые спички и бумажные фитильки, которыми Прохоров чистил трубку, достала сигареты, закурила… «Как у себя дома, – раздраженно думал Прохоров, перебирая ее листочки и искоса глядя на нее. – Никакого чувства дистанции…» Санчукова курила, положа ногу на ногу. Прохоров впервые увидел, что у нее очень хорошие ноги, просто «шесть-ноль», стройные, с крепкими, но гладкими икрами. Дело было летом, она была без чулок, и золотистый пушок на ее голенях сиял в лучах солнца – она сидела против света.
Прохоров поспешно опустил глаза в ее наметки-наброски. Сначала он перелистал весь текст, просмотрел его по диагонали, а потом, вернувшись к началу, стал читать подробно. Итак, уважаемые члены ученого совета, что же нам предлагает соискательница Санчукова? Санчукова, как явствовало из начальных рассуждений, предлагала новые, принципиально новые, мощные методы вероятностного прогнозирования – было весьма интересно и оригинально, но как-то слишком лихо: по существу, Санчукова хотела создать новый раздел науки. Впрочем про себя усмехнулся Прохоров, именно таковы требования ВАКа к докторским диссертациям… Но на следующей странице ему стало не до смеха – он с ужасом понял, что не все понимает. Нет, конечно, в общем и целом он понимал, какую задачу ставит перед собой Санчукова – так сказать, на уровне здравого смысла, – но очень слабо понимал, каким образом можно эту задачу решить. И он напрягал голову, и в голове происходила какая-то перефокусировка, и вдруг становились ясными конкретные пути, которыми собиралась двигаться Санчукова, но зато совершенно ускользала, расплывалась общая идея, и в затылке была бессильная тяжесть – зачем все это высокоумие? Кому? И Прохоров изумился, что у него возник такой оскорбительно нематематический вопрос. А может быть, он на самом деле не математик? Раз он спрашивает «зачем»? Раз не может разобрать, что понаписала девчонка, кандидат наук? А кто он тогда?
Он поднял глаза и поглядел на Санчукову, и ему показалось, что она тайком улыбается. Замечательно. Так вот, может быть, я и не математик, но я профессор математики! Чуете разницу, милые мои кандидаты наук? Не чуете? Ну я вам постараюсь доходчиво объяснить… Кстати, буквально на днях ВАК утвердил Прохорова в звании профессора, так что теперь жена могла привинчивать к двери вожделенную табличку – и вдруг такой, можно сказать, ушат холодной воды. Но дело, в сущности, вовсе не в этом. Стыдные мысли – Прохоров быстро с ними справился, поскольку он вполне реалистично оценивал масштабы собственного дарования, был человеком вовсе не завистливым, и поэтому он совсем уже был готов поздравить Санчукову и добавить какую-нибудь чисто профессорскую пошлость – мол, нам время тлеть, а вам цвести. Но решил дочитать до конца.
И оказалось, что та самая занятная проблемка, которая уже почти двадцать лет томила Прохорова, та самая идея, которую он холил, лелеял и вынашивал, на которую так надеялся, о которой боялся говорить вслух, но, очарованный дурень, хотел от щедрот своих поделиться с Санчуковой, – так вот, эту самую идею-проблему Санчукова исчерпывающе проанализировала в качестве частного случая некоей более общей теории. Своей теории. Прохоров чуть прикрыл глаза. На секунду захотелось попросить у нее пощады – вот так просто взять и сказать: «Анна Андреевна, Анечка, пожалейте, милая, не надо… Вы же такая молодая еще, у вас все впереди, и вы ведь женщина, жена, у вас обязательно будет ребенок. Может, не один… Зачем вам все это? А у меня больше ничего нет. Пожалейте меня, оставьте меня, оставьте!» Ну, конечно, таких слов он бы никогда ей не сказал, даже похожих, но, наверное, он сумел бы просто поговорить с ней по-человечески, сумел бы спокойно объяснить, что ее замысел – это слишком дорогая брошь на ситцевом платьице институтских планов. И она бы все, конечно, поняла, и они вдвоем бы что-нибудь придумали, тихо бы спланировали тихую докторскую, тихо бы ее защитили, а потом бы он ее тихо спровадил в любое распрестижное место, на уши бы встал, – а там, Анечка, вперед, заре навстречу. И при этом она бы считалась его ученицей.
Но тут он снова поднял глаза и посмотрел на нее. Она сидела, бесцеремонно вытянув свои неожиданно красивые ноги, сводя и разводя носки растоптанных летних туфель, глядела в окно и, что называется, ворон считала. И по ее бестревожному лицу Прохоров ясно понял, что весь этот визит с наметками-набросками плана – для нее просто формальность, и предстоящий разговор с ним – тоже формальность, и сам он для нее совершенно пустая формальность, которую зачем-то нужно пройти, а не пройти – так перешагнуть и не оглянуться. И тогда Прохоров громко захлопнул папку и сказал, что рекомендовал бы сосредоточиться на решении конкретных прикладных задач, и не надо забывать, какое слово стоит в названии института: «Прикладной! Вы поняли, Анна Андреевна, – при-клад-ной! А всем вот этим вы вольны заниматься в свободное от работы время, кстати, я, например, уже разучился отличать, где у вас свободное время, а где служебное! Где вы были в четверг, в ваш присутственный день?!»
На что Санчукова, чуть пожав плечами, объяснила, что была на конференции в МГУ, о чем в табеле загодя была сделана запись, после чего спросила, не имеет ли глубокоуважаемый руководитель сказать что-нибудь по существу прочитанного – ведь ее вроде бы пригласили обсудить план диссертации, а не выговоры выслушивать. Прохоров тоже пожал плечами и, постукивая пальцами по санчуковской папке, сказал, растягивая слова, что все это весьма, весьма, в общем, мило и занятно и демонстрирует весьма, весьма незаурядную голову, но в целом это некий структуралистский экзерсис, да-с, структуралистский экзерсис, и пока не более того – Прохоров умел-таки подпустить словцо.