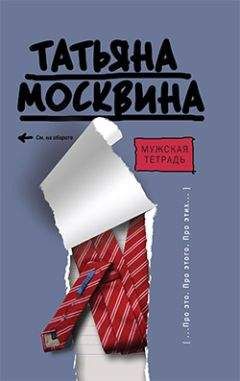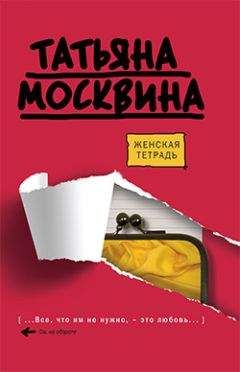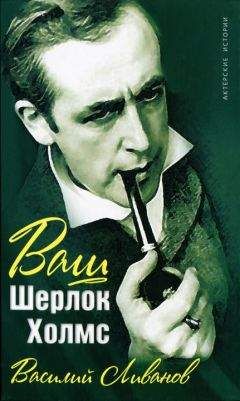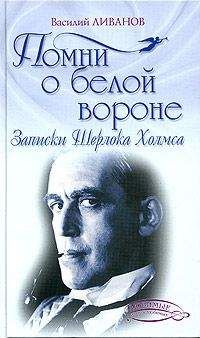Ознакомительная версия.
Но ведь Олег Меньшиков – человек вполне образованный, талантливый и, что важнее, абсолютно вменяемый. Для чего-то он (вместе с режиссером Галиной Дубовской) взялся за эту историю, в которой запутано и мистифицировано решительно все. Что-то поманило его сочинять трехчасовое представление (а пьеса творилась совместно с труппой и постановщиком, и часть ответственности за композиционные грехи лежит и на них) с беспрерывным словоговорением. Маячил ведь некий идеальный образ своего, заветного, «другого театра» – бесплотного, как сновидение, легко играющего с мифами, метафорами и метаморфозами. Вот люди современности собираются на кухне – а вот уже все поплыло в миф, и явились нибелунги, Зигфрид с Кримхильдой, Хагеном и прочие. Почему нибелунги? Нипочему. Могли быть и Меровинги, или Плантагенеты, или Ланкастеры. Главное – чтоб короли и рыцари, да не те, реальные, из грязно-кровавого Средневековья, а как на детских утренниках играют. Чистенькие, приятные, в жестяных коронах, с деревянными мечами. Решать сложные задачи не получится, если не освоены более простые. Убедить нас, что именно на кухне собираются именно люди, каждый со своим характером, а не артисты, говорящие плохой текст (боже, как они только все это выучили!), – обязательно нужно, если предстоит игра с временами и пространствами. Наползание мифа на реальность может получиться только из рельефной разницы того и другого. Но бытовая часть «Кухни» так же бедна художественной образностью, плотностью деталей, как и «оперная». Во «Взрослой дочери» Савченко чистила вареные яйца для салата пять минут, и это было остроумно и по делу. Здесь она чистит картошку полтора часа, и это – никак. Я читала много театроведческих ругательств в адрес «бытового театра» и никогда не могла понять, где обвинители этот театр видели. Как нынче артисты ходят, разговаривают, смеются – так люди в жизни не делают. «Кухня» не стала исключением – люди кухни не живые, а кукольные. Их условная гибель в финале ничуть не трогает.
Ничуть не трогает и главное событие пьесы – убийство славного Зигфрида (в «кухонной» ипостаси он называется Новенький), о невероятном совершенстве которого толкуется всю пьесу и которого играет миловидный и будто чем-то сильно перепуганный артист Никита Татаренков. При полном отсутствии действия – будь он хоть Лоуренсом Оливье, эту роль было бы не спасти. Почему владельца замка, короля бургундов Гюнтера – его играет сам Олег Меньшиков – так переклинило на этого Зигфрида, что он с маниакальным упорством убивает его во всех временах, мне постигнуть не удалось. Может, «убить» – это эвфемизм какой-то? Но нет, вроде вот он, Зигфрид-то, лежит на каталке без явных признаков сценической жизни. А уборщица Надежда Петровна (Оксана Мысина), вспомнив, что она его жена Кримхильда, грозно требует голову убийцы мужа. А тут бродит еще и Брюнхильда (Татьяна Рудина), которая жена Гюнтера, но она никому не мстит, потому что в мирной жизни была Татьяной Рудольфовной, и Гюнтер, который всегда был Гюнтером, ее никогда не любил, так кому тут мстить. Костюмы Игоря Чапурина. Вот это оливковое, с пояском, что на Кримхильде, пожалуй, я бы купила. Еще много говорит Адвокат с портфелем и пистолетом (Геннадий Галкин) и спящий на кухне Ленивец, которого все зовут артистом и который потом утверждает, что он Атилла, повелитель Востока. Гюнтер коварно подбивает Кримхильду, вместо мести, выйти за него замуж. Не за Гюнтера выйти замуж, о непонятливые мои читатели, а за эту Атиллу (так обозначено имя персонажа в программке, хотя настоящего вождя гуннов звали Аттила, с двумя «т»). Кроме того, кухня уже куда-то делась, и вместо нее своды замка типа как в «Трубадуре». Художник Александр Попов. Вот критики бранят Павла Каплевича, а по-моему, Попов куда хуже. Слева кто-то уныло играет на губной гармошке. Музыка Бориса Гребенщикова. На исходе третьего часа спектакля к персонажам начинаешь привыкать.
Хотя среди актерской команды есть любопытные индивидуальности, именно подбор актеров – «кастинг» – неудачен. Три главные женщины, хорошие актрисы (Рудина, Мысина и Галина Петрова в роли повара Медянкиной), принадлежат к одному женскому типу (худые, нервозные, длиннолицые, современно-стильные), а ведь должен был быть какой-то контраст. Юноши же все сплошь бесцветны и безлики. Может быть, Меньшикову лучше ставить оперы? Там бесплотность и абстракция сценического рисунка хоть подкреплены музыкой. Здесь есть над чем подумать Мариинскому театру…
Теперь о главном.
…Он появляется, как и в «Горе от ума», сверху, на левом балкончике, вызывая – без всякого преувеличения – бурю аплодисментов. Тут-то и понимаешь, что общество не на спектакль пришло. Можно подумать, спектаклей мы не видели. Люди пришли совершить акт языческого жертвоприношения и отдать своему кумиру толику денег, цветов, времени, желания, мечты. Акт состоялся. Однако что с нашим кумиром? Кому мы поклоняемся – вернее, кому в его лице мы поклоняемся? Кем наш герой сегодня явится – «…Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, иль маской щегольнет иной, иль просто будет добрый малый, как вы да я да целый свет? Знаком он вам? И да и нет…»
Меньшиков играет злобного, холодного, бездушного «не человека». Это он сам так говорит – «я не человек». Действительно, человеческого в нем скудновато. С ехидной иронией и ядовитым презрением обращается он со всеми персонажами – и с Брюнхильдой, вроде бы женой (они прожили пятнадцать лет? невозможно поверить), и с Кримхильдой, к которой он вроде бы питает какие-то чувства (никаких следов этих чувств нет в собственно сценическом тексте), и с забавной тетей Валей, и с верным слугой Хагеном, остальных вообще едва замечает. «Связи, отношения, оценки» (выражение театроведа Е.С. Калмановского), составляющие питательный бульон сценического действия, отсутствуют почти что полностью. Меньшиков, невидимой стеной отделенный от всего и всех, ничего никому не излучающий и излучений не принимающий, ведет монологическое существование, и весь этот долгий и бессвязный монолог посвящен одному: отстоять и обосновать свое право убить злосчастного юношу Зигфрида. Тот, бедняга, завороженный какими-то «навьими чарами», соглашается, что так, конечно, будет для него гораздо лучше. Какой же из него герой – победитель дракона, когда это типичная «депрессивная личность» жертвенного склада, каких полно во всех сектах. В разговоре с Кримхильдой герой Меньшикова утверждает, что теперь Зигфрид переселился в него и там, внутри, растет. Короче говоря, наш любимый артист совершенно созрел для роли серийного убийцы или какой-нибудь мистической гадины. Вообще, из этого фэнтези-триллера с присвоением чужой сущности можно вынести впечатление смутного оправдания аморализма, и меньшиковский Гюнтер – мерзкий типчик, источающий злой холод, оказывается самым убедительным персонажем. Действительно, зачем Кримхильда решила мстить, когда все произошло по доброй воле, жертва согласна на палача. Потом пришли гунны, что-то там взорвалось, и все погибли. А Гюнтер погиб ли? Вот не ручаюсь. Он как-то хитренько стушевался со сцены и убрался, очевидно, в свою черную космическую дыру, из которой ему пришлось по воле рока выползать на сцену повелевать ничтожными людишками.
В стиле исполнения этой роли Меньшиковым есть нечто высокопарно-романтическое и шутовское одновременно. Такой аккорд – не редкость в современной культуре, избегающей натурального пафоса. Даже в самом низу ее идут поиски пластической иронии – как, скажем, в клипе Бориса Моисеева «Черный лебедь», где этот мученик поп-культуры, утыканный перьями а-ля Марлен Дитрих в «Шанхайском экспрессе», утверждает, что он не такой, как все, а напротив того: он – черный лебедь (я когда первый раз увидела, меня от смеха чуть удар не хватил). Но у Меньшикова, разумеется, не кич – а ирония преднамеренная, так сказать спасительная. «Уж не пародия ли он?» Его герой не «черный лебедь», а более таинственный и аристократический «черный квадрат» – но обведенный по ходу спектакля каемочкой шутовства. К концу представления он объясняет: предыдущее сообщение о том, что он не человек, неверно, и он является человеком. Кто ж так шутит! Мы прямо испугались все. Даже столь хорошенькому королю бургундов непозволительно троекратно мочить приятеля и высокомерно декларировать, что так и надо…
Свобода, свобода, самая пленительная и жестокая вещь на свете. Со времен «Калигулы» Петра Фоменко артист Олег Меньшиков не знает режиссуры. Он давно живет всеми радостями и ужасами своеволия. Он может выбирать все что угодно – пьесу, партнеров, форму самоосуществления… все, кроме смысла собственной воли, а это – вне выбора. И обнаруживается коварство простых вещей – нибелунги нибелунгами, но надо же на сцене куда-то девать руки и ноги. Фоменко – тот знает куда. Меньшиков – пока не знает, потому что способность к сочинению пластического, образного сценического решения есть способность редкая, ни в какой связи не находящаяся ни с умом, ни со знаниями, ни с воспитанием, ни с волей. И поэтому половину второго действия «Горя от ума» актер таскал в руках пальто (собираясь уходить, что ли?) и стоял на коленях. А почти все первое действие «Кухни» держит в руках серый пуховый платок и тоже много стоит на коленях. Иногда простудно подкашливает. Ему явно нечем заполнять сценическое время – ему, умевшему вести счет на секунды… Скованная пластически, невнятная по смыслу постановка «Кухни» не выказывает явных признаков горячего интереса к людям – как-то все (на мой личный взгляд) абстрактно, безжизненно, отвлеченно. Все-таки режиссеру драматического театра надо знать, понимать (а в идеале – и любить) людей, их разнообразие, пестроту, нелепицу и сумбур их трудной жизни. Но сорок лет, прожитые Меньшиковым, – это мираж. Ему не то в два раза меньше, не то в сто раз больше. И интерес ко всяким там «историям поколений» и житейской канители не для него. Недаром он так редко играет роли своих современников – на опаленных крыльях нашего героя не лежит пыль земных дорог. Однако вечность, созданная им в этой постановке, довольно отвратительна. Эта вечность еще кошмарнее свидригайловской баньки с пауками – стерильно-холодная, мрачная пустота подземелья с бутафорским трупом юноши в центре. Бр-р…
Ознакомительная версия.