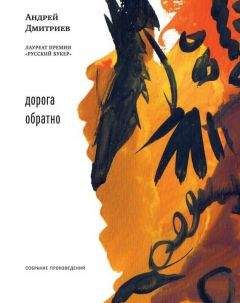…И небо за окном светлеет, и Елистратов устает страдать. Как перед тихой смертью, к нему приходит умиление, и он видит: мать, живая, режет арбуз. Елистратов улыбается, слезно просит невесть кого: «Теперь можно уснуть?», но неведомый спать не велит, а велит вспомнить все, чем до сих пор держалась жизнь. И Елистратов вспоминает, как мать резала арбуз, как она пела, стыдясь своего неверного слуха. Вспоминает ловлю раков в черной воде озера. Отец, мать и какие-то дядьки варили их на костре под звездами. Возвращались под утро, мотоциклы трещали в тающей тьме, нестерпимо хотелось спать. Он бы и уснул в коляске под громко хлопающим брезентом, но дядьки завопили: «Заяц! Заяц! Гляди, заяц!» — огромный заяц метался в электрическом желтом луче. Он рассердился: ну и пусть, что заяц, а я маленький и хочу спать… В надежде заслужить сон Елистратов вспоминает жесткие гривы и упругие крупы лошадей на областной сельхозвыставке, запах яблок в павильоне «Садоводство», таких громадных, такой красивой окраски, что казалось, они не настоящие — их из воска для выставки вылепили, а потом раскрасили кисточкой… Вспоминает стадион. Пытавинский «Данко» принимал псковского «Выдвиженца» и проигрывал, отец пил пиво на прогретой солнцем деревянной трибуне. Подражая отцу, он пил из горлышка «дюшес» и, когда допил, вытер горлышко ладонью… Вспоминает школу, где был сильнее всех, но не злой. Вспоминает, как перешел в десятый и пил с одноклассниками вино по кругу на предзакатном озерном берегу. Татьяна одна не пила, они отошли вдвоем с Татьяной к темной воде и говорили о книжном и непривычном. Пока говорили, под брючину залез муравей, дополз, сука, доверху и укусил смешно сказать куда. Удалось не измениться в лице, Татьяна ничего не заметила — дрожала, будто от холода… Она и потом всегда дрожала, отводила в сторону глаза, всякий раз порывалась выскользнуть, увернуться и убежать, но всегда оставалась. Она всегда была рядом, честно ждала из армии, и глаза у нее, когда дождалась, были такие удивленные, такие глупые, что хотелось уже не просто спать с нею, изматывая ее и себя, но как-нибудь по-доброму вместе уснуть и увидеть, если повезет, один сон на двоих… Потом была свадьба в ресторане «Бриг», родня и гости орали через стол свои слюнявые глупости, и нагревались в пламени люстр загодя замороженные водочные бутылки. Плавился жир в буженине, расползался желтый майонез, слоясь, стелился над скатертью табачный дым, и, перекрывая звон стекла, лязг приборов из нержавейки, чмоканье, хохот и пение вразнобой, звучал насмешливый фальцет официанта Краснопевцева: «Командиры, решайте, горячее нести?» — ему пора уже выйти, посаженному в восемьдесят четвертом за убийство официанту Краснопевцеву…
Елистратов открывает глаза. Душно. Зудит сопревшая кожа. Жарко похрапывает Татьяна, дети всхлипывают и вскрикивают во сне. Уснуть не суждено. Вставай и начинай жить: двигайся, действуй, говори слова, исполняй команды. Не думай и не прислушивайся к отчаянию, уже убившему сон и готовому убить душу.
…В полночь, когда укладывались, на этаж поднялся вахтер общежития Семенов и позвал Елистратова к телефону. Если бы Семенов позвал его весело и важно, если б ревниво поторапливал, это означало бы — звонят со службы, но вахтер был презрителен, заспан, он зевал на ходу и скулил: «Чтобы мне в последний раз эти звонки среди ночи, а то милиция, а сами порядку не знаете».
Ясно было, звонил отец.
Он долго кашлял, не решаясь говорить, и в трубке удивительно хорошо было слышно, как там, в Пытавине, на переговорном пункте брякает ведро, хлюпает тряпка, шлепает босыми ногами по линолеуму уборщица Соня, потом загудел отдаленный голос телефонистки Казанкиной, сильно искаженный неисправным динамиком: «Новозыбков Брянской, вторая кабина… Новозыбков, вторая… Мурманск не отвечает, не отвечает Мурманск, будете повторять?»… Отец прокашлялся и сразу спросил:
— Ты что-нибудь надумал?
— Я думаю, думаю, — тоскливо сказал Елистратов.
— Ты думай, Гена, думай, а то я больше не могу. Ты думай, я с пониманием приму любое твое решение.
— Потерпи еще… Мне нужно расшевелить полковника Хмолина, да все некогда.
— Кому некогда?
— Хмолину! — обиженно ответил Елистратов. Он под любым предлогом оттягивал встречу с полковником, наверняка унизительную, бесполезную, то есть отцу он лгал, и, оттого что лгал, надо было немедленно возненавидеть хоть кого, лишь бы не себя самого, и он поспешил возненавидеть вахтера Семенова, равнодушного свидетеля его лжи. «Сволочь», — тихо выплюнул он в горбящуюся на кушетке, обвернутую байковым одеялом спину вахтера…
— Я не слышу тебя. Ты что-то сказал? — забеспокоился отец, в трубке пискнуло, ворвался голос Казанкиной: «Заканчивайте, ваше время вышло», — и опять, ее же голос: «Гена, намекни своей Татьяне, пусть посмотрит мне какой-нибудь дезодорант, только хороший», — вновь пискнуло, загудело. Елистратов бросил трубку, еще раз процедил «сволочь» спящему вахтеру и поднялся к себе на десятый этаж, в комнату № 1042, где дети, Петя и Митя, уже успели надышать до духоты и Татьяна тоже спала. Елистратов улегся рядом с женой, предчувствуя каждым нервом: будет бессонница.
Раньше Елистратов всегда спал крепко и спать любил. Тех, кто страдает бессонницей, не жалел, даже презирал, не признавая в них нездоровья и подозревая распущенность. Но около года назад, в апреле, пришло нехорошее письмо от отца. Там после привычных пытавинских новостей было вот что: завезли поднадзорных, поселили их кого где, у тех, кто согласился взять, «а я к себе никого не пустил: денег мне хватает, а чистоту люблю», — хвастался отец, но тут же сообщал, что они уже наведывались, и не сами по себе, а в компании с Богатовым — «ты ведь помнишь этого Богатова?» — и приходили они пьяные. Намекнули: ты, старый дурень, — отец милиционера, — «они сказали не „милиционер“, а другое слово, но не хочу тебя, дорогой мой Гена, сейчас расстраивать» — мы, дескать, это знаем и помним, у нас еще будет время, чего-чего, сказали они, а времени у нас навалом… «Ты догадываешься, как я им ответил, разъяснил кое-что. Они теперь пять раз подумают, прежде чем сунуться». Елистратов насторожился, вчитавшись в эти слишком бодрые строки. Как отец ни хорохорится, а напуган, и правильно, что напуган, тут лишь полный дурак не испугается. Блатная пришлая шваль снюхалась с пытавинской швалью — с теми, кого он, Елистратов, в свое время не раз тягал за шкирку и многих дотягал-таки до тюрьмы.
Оплошно обиженный сумеет простить. Безнаказанно содеявший зло, бывает, что и раскается, одурев в своей потаенной жизни от страха, одиночества, от тяжбы с самим собой. Но всякий, кого хоть раз, уличив в явной гадости, тягали за шкирку, не прощает никогда: не только тому, кто тягал, но всем, — и от этого неизбывного непрощения пьет, опускается либо, напротив, старательно бережет здоровье, но втайне копит яд и желчь, сочиняет, вынашивает и лелеет в себе ритуал расправы, часто подсмотренный в кинокартинах с лихим кровавым сюжетом, подслушанный в слезливых и жестоких песнях уголовной России. Стоит лишь таким непростившим волею случая или казенного дурака свободно собраться кучей в одном месте — они вдруг смелеют и, охмелев от долгожданной смелости, принимаются вершить свой суд. Подсудимым избирается неважно кто. Им может стать любой, с кем не слишком опасно связываться, лишенный власти, малозаметный человек, обычно старый, слабый и одинокий… Так учил когда-то начальник пытавинского РОВДа Белоглазов, Елистратов доверчиво усвоил урок, теперь вспомнил его и впервые в жизни пожалел, что не держит димедрола в домашней аптечке.
Чтобы бессонница не повторилась, он успокоил себя привычным «обойдется» и прекрасно спал несколько ночей подряд — до следующего, уже не бодрого письма… Опять приходили, опять пьяные, требовали самогона и денег «в долг», самогон отец не гонит и денег не дал; они угрожали, пришлось идти жаловаться Белоглазову, тот обещал повлиять и, похоже, повлиял. Больше никто не приходил, но двое пытавинских, Богатов и Орлов, встретили на улице и сказали: «Зря ты улыбаешься, недолго тебе улыбаться». Это Богатов сказал. А Орлов добавил: «Весь в сынка пошел, ну прямо вылитый сынок»…
В третьем письме отец был прям: «Горько мне будет расстаться с Пытавино, горько оставлять дом неизвестно каким чужим людям, но нет теперь у меня другого пути, как только к тебе. Татьяна, я верю, меня поймет. Главное, все сделать как можно быстрее. Я не знаю, что ждет меня завтра, даже не знаю, что ждет меня сегодня вечером, так что ты решай, как сделать быстрее и лучше для всех. И вот что мне особенно обидно, но ты не обижайся. Ты, Гена, в далекой столице охраняешь общественный порядок, а я здесь оказался совсем без защиты. И получается, что из-за тебя, потому что ты служишь в милиции, жизнь моя становится невыносимой и опасной. Ты, я повторяю, не обижайся и не подумай, что я тебя упрекаю. Я всегда гордился тобой, и все тебя здесь абсолютно уважают…»