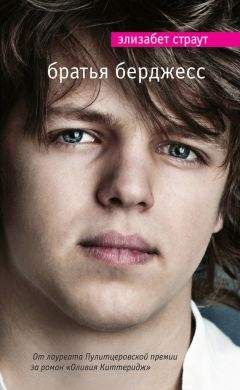И жизнь действительно была борьбой. Лед в Вест-Эннете всю зиму лежал такой толстый, что его приходилось скалывать и убирать с крылечек и ступенек и с ветровых стекол, обматывать колеса машин цепями, чтобы тихонько доползти по покрытой заледеневшим снегом дороге хотя бы до продуктового магазина. Часто в зимние месяцы семьи обогревали только одну или две комнаты в доме: газовые печи отказывались работать, а дровяная печь требовала поленьев, за которыми нужно было спускаться в подвал или ходить в сарай. Многие дома стояли далеко друг от друга, пешком не дойти, и изолированность была очень тяжела для пожилых людей, матерей с маленькими детьми, тяжела на самом деле практически для всех. Жители приходили в церковь не столько потому, что верили — это их долг, а просто потому, что это давало им возможность выйти из дому, красиво одеться, услышать хоть малую толику местных новостей. Пребывание в церкви на проповеди преподобного Смита требовало сжать зубы и набраться терпения, и многие мужчины не были на это способны. Довольно часто в те времена мужчины оставались дома, возвращаясь туда после того, как высадят у церкви жену и детишек.
Но Тайлер Кэски — это было что-то совершенно другое. Он не читал свои проповеди по бумажке, он, по-видимому, даже не заглядывал в записи, и прихожане могли смотреть в его открытое лицо в то время, как он обращался к ним, и казалось, что черты его то и дело озаряются светом.
— Давайте будем любить Бога и восхищаться Им, — говорил он, и было видно, что он совершенно искренен, — давайте любить и восхищаться нашими матерями и отцами, нашими детьми. Будем восхищаться заснеженными деревьями на холмах, каменными стенами, возведенными сильными людьми, маленькой птичкой гаичкой,[25] которая храбро переносит нашу зиму, и малиновкой, которая каждую весну возвращается сюда. Давайте возносить хвалу. Давайте возлюбим Господа нашего Христа!
Мысль, что он подвергает себя риску, вызывая сильное чувство привязанности у членов своей паствы, была чужда Тайлеру, хотя посещаемость церкви резко возросла: прихожане стремились посидеть в атмосфере его искренней теплоты; Тайлер не признавал, что во всем этом может таиться опасность. Когда в выходные на какой-то неделе он посетил Джорджа Этвуда, своего профессора в Теологической семинарии Брокмортона, и рассказал ему о волнении и восторге, которые испытывал на своей новой работе, старый профессор выслушал его и сказал только: «Это напоминает мне о замечании императора Хирохито, сделанном им одному из помощников: „Плоды победы сыплются в наши рты слишком быстро“». Тайлер, возвращаясь в машине домой, подумал: может, старому профессору горько оттого, что он стар и его собственный энтузиазм угас?
Теперь он вспомнил об этом воскресным утром, застегивая новую рубашку. Грозовые облака надвинулись ночью на город, и октябрьские дни, с их ясным небом и сверканием солнечных лучей, уступили место проливному дождю. В окно кабинета Тайлеру было видно, как дождь бьет по садовым кирпичам с такой силой, что отскакивает снова вверх, капли взрываются, словно водяные пули.
Он сунул проповедь в папку и через прихожую прошел на кухню.
Маргарет Кэски, чистившая картошку, сказала, что сегодня она не пойдет в церковь — останется с малышкой и приготовит обед, но Кэтрин-Эстелле нужно надеть сапожки и отправиться в дошкольную группу воскресной школы.
— Ты ведь не хочешь испортить свои новые туфельки, которые тетя Белл тебе купила, хотя, должна сказать, ты уже сильно их исцарапала, судя по тому, как они выглядят.
Девочка понимала, что бабушка ее не любит. Сидя рядом с отцом на переднем сиденье, перед ветровым стеклом, по которому — флип-флип — ползали стеклоочистители, а пониже перед ней торчали ее собственные ноги в красных сапожках, она думала о том, знает ли про это и ее папа. Она повернулась к нему и посмотрела пристально.
— Что, моя девочка, тебе опять надо выбросить все печенье наружу?
В прошлый четверг он забрал Кэтрин из кабинета медсестры, не повидавшись с миссис Ингерсолл, и с тех пор она казалась вполне здоровой. Он позволил ей остаться в пятницу дома, и Кэтрин, сидя у него в кабинете, раскрашивала картинки, тихонько, чтобы не мешать отцу читать. Потом они поехали покататься и вернулись домой затемно: девочка заснула в машине, склонив голову набок.
А сейчас она разок пнула сапожками воздух, и лицо ее залил румянец. Ей вспомнилось, как Марта Уотсон крикнула: «Кэтти Кэски стошнило и это воняет!» — и все дети стали зажимать носы.
— Кэтрин? — Папа положил свою большую ладонь ей на колено и легонько его сжал.
Это заставило ее рассмеяться — это ощущение, что золотая волшебная палочка описывает восхитительную загогулину внутри ее коленки. И когда через несколько мгновений папа убрал руку, потеря была настолько же ужасной, насколько коленка чувствовала себя счастливой.
— Там будет немного народу, — сказал папа в залитое водой ветровое стекло перед Кэтрин, — такой дождь на улице!
Однако народу было столько же, сколько всегда. Элисон Чейз в дошкольной группе совсем зашивалась. Ребятишки прыгали повсюду, словно птички в ярком оперении. Миссис Чейз сказала: «Доброе утро, Кэтрин!» — и ее оранжевая помада растянулась в улыбке, но больше миссис Чейз ничего не сказала, и Кэтрин так все утро и оставалась в резиновых сапожках, чувствуя, как влажно и жарко ее ногам. Оранжевая помада миссис Чейз показалась Кэтрин такой липкой и противной, что девочка вообще не могла смотреть на нее, и, когда миссис Чейз привела детей в комнату для занятий, Кэтрин тихонько отошла в сторону, пока все остальные дети пели гимн «О, что за друг нам Иисус…»[26] — а миссис Чейз играла на рояле. Затем нужно было прочесть Господню молитву — «Отче наш», — которой Иисус обучил своих апостолов.[27] Надо было, закрыв глаза, склонить голову, но Кэтрин глаза закрывать не стала — она смотрела на свои красные сапожки. И в середине молитвы совершенно спокойно произнесла: «Я ненавижу Бога».
В помещении храма, еще в преддверии, женщины снимали пластиковые шапочки и стряхивали с них дождевые капли, расстегивали пальто и слегка расправляли плечи, но пальто не снимали: предполагалось, что в церкви женщины пальто не снимают, а вот мужчины — обязательно. Мужчины либо в вестибюле, либо в проходе между рядами снимали пальто и сворачивали их, сегодня влажными квадратами, прежде чем пройти к скамье, затем укладывали сверток либо рядом с собой, на малинового цвета подушки, либо просто засовывали под скамью. Когда оканчивалась прелюдия органа, можно было порой услышать, как бурчит у кого-то в животе, звон упавших на пол ключей, и прихожане выпрямлялись и встряхивались, с полным надежд ожиданием глядя на преподобного Тайлера Кэски, вышедшего к кафедре. Но даже теперь, хотя прошел уже целый год, никто не решался сесть на скамью в третьем ряду.
Эта женщина была прелестна.
Она была прелестна, ее яркие волосы четко выделялись над меховым воротником ее шерстяного пальто цвета беж, прелестна, когда стояла рядом с мужем на крыльце церкви и щеки ее цвели румянцем в лучах зимнего солнца. И даже если частично ее прелесть можно было объяснить результатом искусно наложенного макияжа и дорогой, хорошо подобранной одежды… Лорэн Кэски, как говорили, проводила много времени перед зеркалом, ведь она, как представляется, совершенно явно ни в каком другом месте много времени не проводила. И правда, она самым любопытным образом отсутствовала на любых мероприятиях, где было вполне резонно ожидать участия жены священника. Шли заседания комитетов различных обществ: взаимопомощи, солнечного сияния, миссионерского, — Лорэн Кэски не принимала в них участия. Но ведь она должна заботиться о недавно родившейся дочери и еще к тому же (у говорящей одна бровь взлетала на лоб) о своих волосах. Ее волосы, цвета спелых яблок в солнечный день, явились прямо из бутылки, их корни требуют ежемесячной заботы и особого ухода — говорили те, кто понимает.
Но даже если Лорэн Кэски знала о двойственном отношении к ней, которое вызывала в городе, вы никогда не догадались бы об этом, видя, как каждое воскресенье она садится на скамью в третьем ряду, лучисто улыбаясь всем, кто ее окружает, а крохотная, с взлохмаченной головенкой Кэтрин-Эстелла садится рядом с ней и играет с тряпичной куклой в затертом одеяльце. Время от времени малышка вдруг начинала пощелкивать языком или петь своей дочке колыбельную песенку, тогда прихожане, сидевшие позади них, видели, как миссис Кэски похлопывает Кэтрин по плечу и прижимает к ее губам палец, и мать с дочерью приподнимают плечи и украдкой улыбаются друг другу, будто знают какой-то им одним известный секрет, и девочка снова сидит тихонько.
Что-то такое тут было — никто точно не мог бы сказать, что именно, — только эта мать и ее дочка продолжали вызывать двойственную реакцию. Мать была недостаточно дружелюбна, отчасти дело было в этом. Сколько бы Лорэн Кэски ни сияла улыбкой, пожимая руки в вестибюле церкви после службы, в ней была заметна какая-то небрежность, словно ей вовсе не интересно побывать у вас в доме, словно ее на самом деле вовсе не интересует, как живут другие люди здесь, в своем маленьком городке.