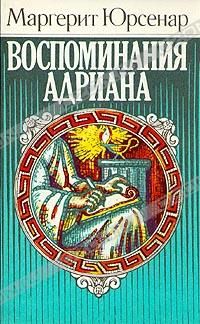Но с наибольшим упорством стремился я достичь свободы добровольного приятия — самой трудной из всех свобод. Я с охотой принимал на себя ту роль, которая отводилась мне в обществе; в годы подчиненного положения моя зависимость переставала быть для меня горькой и ненавистной, если я рассматривал ее как полезную тренировку. Я сам выбирал то, чем обладал, но зато заставлял себя обладать этим полностью и получать максимум удовольствия. Самая нудная работа шла легко и споро, стоило мне внушить себе, что она мне приятна. Как только какая-то работа начинала меня раздражать, она становилась предметом моего изучения, и я делал все, чтобы занятие это было мне в радость. Сталкиваясь с непредвиденными, порой безнадежными обстоятельствами, попав, например, в засаду или застигнутый врасплох бурей в открытом море, я, приняв все меры для спасения других, старался встретить превратности судьбы весело и открыто, радуясь тому новому, что они мне несли, и тогда эти неприятные обстоятельства лег ко вписывались в мои планы, в мои мечты. Даже когда я терпел страшный крах, я умел уловить мгновение, когда ярость враждебных сил уже выдыхалась, и катастрофа переставала казаться мне столь ужасной — я словно приручал ее, потому что соглашался ее принять. Если мне суждено когда-нибудь перенести пытку, а мой недуг, без сомнения, позаботится об этом, я не уверен, что мне надолго хватит невозмутимости какого-нибудь Тразеи[49], но я, во всяком случае, найду в себе силы не терзаться от собственных криков. Так, сочетая осторожность и дерзость, смирение и бунтарство, крайнюю требовательность и благоразумную уступчивость, я в конечном счете нашел путь примирения с самим собой.
Если бы эта жизнь в Риме продолжалась еще какое-то время, она наверняка озлобила бы и развратила меня или подорвала бы мое здоровье. Меня спасло возвращение в армию. Здесь тоже существуют свои соблазны, но они проще. Отъезд в армию[50] означал дальнюю дорогу; я уезжал с восторгом. Меня назначили трибуном во Второй легион; я провел в верховьях Дуная несколько месяцев; стояла дождливая осень, и единственным моим товарищем был незадолго до того вышедший том Плутарха. В ноябре я был переведен в Пятый Македонский легион, расквартированный тогда (как, впрочем, и сейчас) в устье той же реки, у границ Нижней Мёзии. Снег, заваливший дороги, не позволил мне добираться по суше. Я сел на корабль в Пуле и едва успел побывать по дороге в Афинах, где мне предстояло впоследствии прожить долгое время. Известие об убийстве Домициана, дошедшее до нас через несколько дней после моего прибытия в лагерь, никого не удивило и даже обрадовало всех. Траян был вскоре усыновлен Нервой; ввиду преклонного возраста нового государя переход власти к его преемнику был вопросом каких-нибудь месяцев; политика завоеваний, к которой мой родственник, как всем было известно, поставил себе целью склонить Рим, начавшаяся перегруппировка войск, усиливавшееся ужесточение дисциплины — все это держало армию в состоянии напряженного ожидания. Дунайские легионы действовали с точностью хорошо смазанного механизма; они совершенно не походили на те сонные гарнизоны, которые я видел в Испании; но, что самое важное, внимание армии, прикованное до этого к дворцовым распрям, сосредоточивалось теперь на внешних делах империи; наши войска уже не похожи были на банду ликторов, готовых сегодня провозгласить императором первого встречного, а завтра перерезать ему горло. Наиболее толковые командиры пытались уловить некий генеральный план в той реорганизации, в которой они принимали участие; их заботило общее развитие событий, а не только собственная судьба. Впрочем, этот первый этап перемен сопровождался множеством нелепых толков, и десятки стратегических планов, нереальных и смехотворных, испещряли по вечерам поверхность столов. Римский патриотизм, непоколебимая вера в благотворность нашей власти и в исконное предназначение Рима управлять всеми народами принимали у этих профессионалов войны самые грубые формы, которые были мне тогда еще внове. В пограничных районах, где требовалась ловкость для привлечения на нашу сторону вождей кочевых племен, центральной фигурой был не государственный деятель, а солдат; бесчисленные трудовые повинности и реквизиции создавали почву для злоупотреблений, которые никого не удивляли. Из-за постоянных распрей, происходивших между варварами, положение на северо-востоке было для нас благоприятным, как никогда; я даже сомневаюсь, что последовавшие затем войны хоть сколько-нибудь его улучшили. Наши потери в пограничных инцидентах были невелики и тревожили нас лишь потому, что им не видно было конца; однако следует признать, что необходимость постоянно держаться настороже способствовала укреплению боевого духа. Во всяком случае, я был уверен, что самых минимальных затрат в сочетании с более умной политикой окажется достаточно, чтобы одних вождей подчинить, а других сделать нашими союзниками, и я счел нужным направить все свои силы на решение этой последней задачи, которой все почему-то пренебрегали.
Меня побуждала к этому и моя склонность к перемене мест: мне нравились земли варваров. Этот край, лежащий между устьями Дуная и Борисфена[51] огромным треугольником, две стороны которого я объехал, — одна из самых поразительных областей мира, во всяком случае, для нас, рожденных на берегах Внутреннего Моря и привыкших к сухим и ясным пейзажам юга, к холмам и полуостровам. Мне довелось поклоняться богине земли, как мы поклоняемся у себя богине Рима; я говорю сейчас не столько о Церере, сколько о божестве более древнем, существовавшем еще до того, как люди научились выращивать хлеб. В нашей греческой или латинской земле, поддерживаемой костяком скал, есть четкое изящество мужского тела; скифская же земля своим несколько тяжеловатым изобилием напоминала тело лежащей женщины. Бескрайняя равнина сливалась с небом. Мое восхищение достигало предела, когда мне открывалось чудо тамошних рек: эта огромная пустынная земля была для них всего только скатом, всего только ложем. Наши реки коротки; тут никогда не чувствуешь себя далеко от истоков. А там громадный поток, завершавшийся широким лиманом, нес осадки и тину неведомого континента, льды далеких необитаемых просторов. Холода, сковавшие какое-нибудь испанское плоскогорье, никогда не уступают его вторжению чужих холодов; здесь же я впервые повстречался с настоящей зимой, которая в нашу страну заглядывает лишь мимоходом и царит несколько месяцев, ты ощущаешь, что дальше, на севере, она незыблема и неподвижна и нет ей ни конца, ни начала. Вечером моего прибытия в лагерь Дунай казался огромной красной, а потом синей ледяной дорогой, которую скрытая подо льдом работа воды избороздила колеями глубокими, точно следы колесниц. От холода мы защищались мехами. Присутствие этого безликого, почти абстрактного врага производило удивительно бодрящее действие, давало ощущение прилива сил. Люди боролись за сохранение тепла — так же как в других случаях борешься за то, чтобы сохранить мужество. В иные дни снег сглаживал в степи все неровности, и без того почти неразличимые; мы скакали в мире чистого пространства и чистых атомов. Самым обычным, самым мягким предметам мороз придавал прозрачность и в то же время удивительную твердость. Каждая сломанная тростинка становилась хрустальной флейтой. Ассар, мой проводник-кавказец, колол в сумерках лед, чтобы напоить наших коней. Благодаря этим животным мы установили добрые отношения с варварами: во время торгов и бесконечных обсуждений завязывалась своеобразная дружба, и смелость, проявленная наездниками, порождала взаимное уважение друг к другу. По вечерам свет лагерных костров озарял невероятные прыжки стройных танцоров и их удивительные золотые браслеты.
Весной, когда снега таяли и я отваживался заглянуть чуть подальше во внутренние области страны, мне не раз доводилось, повернувшись спиной к южному горизонту, замыкавшему знакомые моря и острова, и к горизонту западному, за которым садилось солнце над Римом, преодолевать в мечтах эти бескрайние степи, стремиться через отроги Кавказа на север или двигаться к самым дальним пределам Азии. Какие пейзажи, каких птиц и зверей, какие племена и народы открыл бы я там, какие увидел бы царства, никогда не слыхавшие о нас — так же как мы ничего не слыхали о них — или узнавшие о нас по случайным товарам, которые добирались до них долгим путем, переходя из рук в руки, от одного купца к другому, и эти товары были для них такой же диковиной, как для нас перец из Индии или кусок янтаря с балтийских берегов! В Одессосе[52] возвратившийся из долголетних странствий негоциант подарил мне полупрозрачный зеленый камень — вещество, как говорят, священное в некой огромной империи, ни богов, ни нравов которой этот человек, озабоченный одной только денежной выгодой, попросту не заметил. Эта странная гемма была для меня точно камень, упавший с небес, точно посланец из далеких миров. Мы еще плохо знаем истинную форму Земли, и мне непонятно, как можно с этим мириться. Я завидую тому, кому посчастливится совершить кругосветное путешествие в двести пятьдесят тысяч греческих стадиев, которое так хорошо рассчитал Эратосфен[53] и которое привело бы путешественника в ту же точку, откуда он начал свой путь. Мне представлялось, что я принимаю решение — идти все вперед и вперед по неизведанным тропам, где кончаются наши дороги. Я тешился этой идеей… Идти совсем одному, ничем не владея, ничего не имея — ни имущества, ни власти, ни каких бы то ни было благ цивилизации, — окунуться в гущу новых людей и неведомых обстоятельств… Само собой разумеется, это было только мечтой, самой мимолетной из всех, что посещали меня. Свобода, которую я измыслил, могла существовать для меня лишь на расстоянии; на самом же деле я незамедлительно создал бы снова все то, от чего так бездумно отказался. Более того, я всюду оставался бы римлянином на вакациях. Некое подобие пуповины привязывало меня к Городу. Быть может, в ту пору, когда я был трибуном, я чувствовал себя более тесно связанным с империей, нежели теперь, когда я стал императором, — по той же причине, по которой запястье обладает меньшей свободой, чем мозг. И, однако, я все же позволил себе эту чудовищную мечту, от которой содрогнулись бы наши кроткие предки, заточившие себя в родном Лациуме, и уже самый факт, что я хоть одно мгновенье лелеял эту мечту, делает меня навсегда непохожим на них.