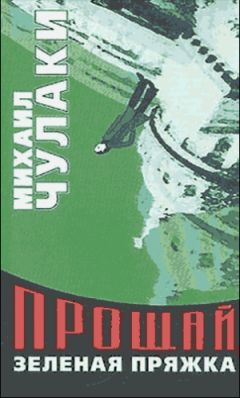— Как хочешь. Голод не тетка, попросишь. А нет, завтра пропишут зонд.
Что такое зонд? Что-то острое! Может быть, им прокалывают насквозь?
После того как ее укололи первый раз, Вера заснула — травили, но не дотравили. На этот раз она не спала. Но наступило странное оцепенение: все как бы отдалилось, потеряло значение — и этот зал с людьми на соседних кроватях, и злая женщина в белом у освещенного выхода, и все воспоминания. Роботы подделываются под людей — ну и пусть. Ее схватили и привезли в тюрьму — ну и пусть. Ее травят и дотравят до смерти в конце концов — ну и пусть. Ничего не имело значения.
А даже хорошо вот так: ничего не бояться, ни о чем не волноваться. Ничего не хотеть. И голод прошел. Спать не хотелось, вставать не хотелось. Так бы лежать и лежать, как Спящей Красавице — ей ведь, наверное, тоже было приятно лежать, и, может быть, она не совсем спала, а вот так грезила, и, может быть, ей вовсе не хотелось просыпаться, и Принц разбудил ее совершенно напрасно? А сюда к ней тоже может прийти Принц?
Но вместо Принца Вере привиделся — не во сне, не наяву, а словно привидение — робот-мужчина, который осматривал ее. Она уже не боялась его, потому что никого не боялась, и не ненавидела, потому что никого не ненавидела. Но теперь Вера понимала, что погрузилась в эти грезы не от укола, а оттого, что робот-мужчина посылает к ней особые успокоительные волны и его образ-привидение проскользнул сюда на этих же волнах.
Потом робот уплыл или растаял, а на волнах приплыла мама. За нею плыл папа. Папа не хотел плыть, но мама его тащила на буксире. Мама посылала Вере воздушные улыбки, как посылают воздушные поцелуи: улыбки одна за другой слетали с ее лица, но под каждой слетевшей улыбкой оказывалась новая. А папа качался на волнах и вздыхал, вздохи вылетали из его рта, как маленькие облачка, и он торопливо ловил их и запихивал обратно в рот — чтобы не заметила мама.
Мама уплыла, утянув и папу, и долго на волнах никого не было, но самые волны Вера видела хорошо — они были, как огромные мыльные пузыри, такие огромные, что в зале помещалась только небольшая часть прозрачной переливающейся сферы, которая свободно и беспрепятственно уходила в стены, потолок и пол, наверное, хотя пола Вера не видела, потому что лежала на спине. Долго на волнах никого не было, а потом всплыло пустое платье, но как будто на кого-то надетое, хотя внутри никого не было. Платье проплыло, а за ним появился черный мужской костюм — тоже словно надетый, но пустой. Вера поняла, что это плывет одежда для новых роботов, и что тот робот-мужчина, который раньше ее осматривал и ощупывал, а теперь насылает на нее успокоительные волны, тот робот-мужчина делает и одежду для новых роботов, чтобы их невозможно было по виду отличить от биологических людей — а значит, он очень важный и могущественный робот.
После пустой одежды поплыли маски, которые роботы надевают вместо лиц. Маски были совсем как настоящие лица, они и улыбались, и гримасничали, и отличались от настоящих только тем, что не были приделаны к головам. Среди масок было много знакомых, в точности похожих на известных артистов, и это было совершенно естественно: ведь артисты всегда стараются нас покорить, вот роботы и хотят воспользоваться этой покорностью, и, наверное, многие артисты давно уже подменены роботами, только никто об этом не знает.
Маски проплыли, и после них волны стали приходить реже, да и сами сделались слабее. Или устал робот-мужчина, который их посылал, или воздух сделался плотнее, так что волнам труднее стало проходить, Да-да, воздух плотнее, воздух плотнее!
Воздух становился плотнее с каждой минутой. Чтобы его вдохнуть, приходилось изо всех сил расширять грудь, а когда его, наконец, удавалось втянуть, так же трудно было и вытолкнуть обратно. Вдох-выдох, вдох-выдох — тяжелая работа! И от этого, и оттого, что ослабели успокоительные волны, Вере сделалось страшно: ведь когда воздух совсем загустеет, он останется в легких, как желе, — и она задохнется! Надо его скорей разбавить легким горным воздухом! Надо его скорей разбавить!
Вера вскочила и закричала:
— Разбавьте воздух! Разбавьте же скорее воздух!
К ней подбежала женщина в белом — та самая, сердитая.
— Ну, что ты опять?
— Разбавьте воздух! Что вы не видите, он совсем густой!
— Да что ты, воздух свежий. Вон и окно открыто.
— Не говорите ерунды! Не теряйте времени! Разбавьте скорее воздух, а то мы все задохнемся!
Опять началась вокруг нее суета. Веру усадили, кто-то держал за руки, а она с трудом прогоняла загустевший воздух через трахею — вдох-выдох, вдох-выдох — тяжелая работа! — и выкрикивала в отчаянии и страхе:
— Ну разбавьте же воздух! Ну, пожалуйста!
Потом появилась еще одна в белом, перед которой все расступились, она села рядом с Верой на кровать и спросила, притворяясь ласковой:
— Что с тобой, девочка? Дышать трудно?
— Воздух совсем густой! Что, вы не видите?!
— А что трудно: вдыхать или выдыхать?
— Воздух совсем густой! Все трудно, потому что воздух совсем густой.
— Ну хорошо, хорошо. Сейчас сделаем.
И снова ее переворачивали и кололи. Потом воздух стал разжижаться, разбавляться, дышать снова стало легко, и Вера заснула.
На следующий день Виталий явился в больницу в половине девятого. Он уж не стал звонить из дома в приемный: сейчас придет и все узнает. Все самое худшее.
По дороге он пытался поверить: задержалась со своими делами, не решилась идти ночью, переночевала дома — пытался поверить, но не мог. Нет, если бы Бородулина пришла, она пришла бы вчера вечером! (Виталий уже в мыслях не называл ее Екатериной Павловной, а официально и сухо — Бородулиной.)
Что-то случилось. Вот — что? Повесилась? Убила соседей? Нет, вчера же к ним заходили вечером — с соседями все в порядке. Бородулина не дошла домой. Могла утопиться — хотя бы в той же Пряжке. И все из-за него! Дурак! Какой же дурак! За модой погнался: «нестеснение»! Не надо решеток, не надо запоров — это угнетает больных! Вот вам нестеснение: нет решеток — они выбрасываются из окон, отпустил свободно из приемного — она утопилась. Какой дурак!
Не поднимаясь к себе, Виталий зашел в приемный, Ира под диктовку записывала своих принятых больных.
— А, именинник наш! Ну, ты отличился! Суицид у твоей Бородулиной!
«О господи! Все-таки погибла, значит».
— Утопилась?
— Да нет, жива она! Звонили из «Двадцать пятого Октября»: ваша, спрашивают… Бросилась под машину, под грузовик. Перелом голени.
— Всего-то?!
— Да уж, легко отделалась… Обожди, или бедра? Чего-то я путаю. Анна Семеновна, вы же разговаривали, что они?
— Перелом бедра, Ирина Владимировна, я записала в журнал телефонограмм.
— Ну, бедра. Видишь, хотела сказать тебе приятнее, да не получилось. Ну ничего, главное — жива! Передать нам они ее не могут, потому что кладут на вытяжение. А от нас теперь нужен туда пост. Ну вот. Главный еще не знает, но сейчас узнает. Так что готовься, пиши докладную.
Худшего не случилось, Виталий немного успокоился — и главным его чувством стал стыд. Стыдно было перед Ирой и особенно перед пожилой величественной Анной Семеновной. Стыдно было идти в отделение — небось, все уже знают. Потом будут говорить на больничной конференции перед всеми врачами. Стыд — он гораздо хуже неизбежного выговора. Надо же было быть таким чувствительным идиотом! Провела как первокурсника! Блокадница, вид благородный…
Виталий обреченно пошел к себе в отделение. Из ординаторской расходились сестры — кончилась пятиминутка. Все здоровались с Виталием, а ему казалось, смотрят кто насмешливо, кто пренебрежительно.
Капитолина встретила его вся озабоченная:
— Виталий Сергеевич, мне уже звонили с третьего, что, мол, эта исчезнувшая больная — забыла, как ее — числится за ними, а они ее в глаза не видели, из приемного она к ним не поступала, а потому, мол, давать от себя к ней пост не согласны. Говорят, ваш доктор ее отпустил, так пусть от вас и пост к ней ходит. А я говорю, больная по району ваша — значит, и должна числиться за вами, и быть там, в «Двадцать пятом Октября», с вашим постом. Ведь правда? Правда! Они говорят, мол, будут жаловаться главному, что у них и так персонала не хватает, чтобы еще на посты отряжать. Как будто у нас персонал лишний! Нет, я буду стоять твердо: раз теперь кладем по районам — значит, все по районам! А кто в приемном дежурил, значения не имеет! Ведь правда? Правда!
Виталию в голову не приходило, что происшествие имеет и такой аспект. Деловой тон Капитолины подействовал благотворно, даже стыд уменьшился.
— Вы, Виталий Сергеевич, сразу объяснительную пишите, чтобы была готова, как главный позовет, а потом я вас отпущу, сходите туда, в «Двадцать пятого Октября», сделайте назначения. Может быть, на этом помиримся с третьим: что вы будете ходить, а пост от них. А то говорят: оформляйте перевод к себе на девятое! А зачем нам такая больная — и не по району, и ослабленная она будет после вытяжения. Ведь правда? Правда! Нет, я буду стоять стеной! А в приемном когда дежурите, и думать не нужно, вот в чем все дело: привезли больного, оформить — и все. Я когда-то в молодости тоже такую глупость сделала: поверила больному, отпустила, еще возмутилась, помню: мол, как оклеветали здравого человека! А он пошел и поджег сарай с сеном — на сколько-то тысяч! Тогдашний главный меня защитил, Георгий Владимирович, наш профессор, он был тогда главным, вы, небось, и не знали: объяснил, где надо, сложности нашей профессии, а то ведь могли и на вредительство повернуть, очень даже просто: сарай-то с сеном колхозный! Страху натерпелась — и зареклась на всю жизнь. А вы легко отделались: подумаешь, перелом! Вы в истории-то все правильно записали? Что суицидных тенденций нет?