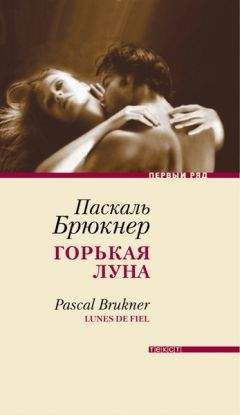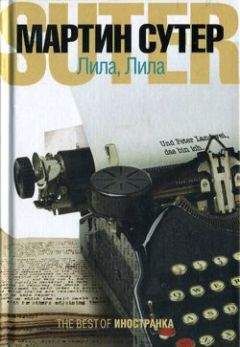— Почему ты не сказал это Францу?
— Потому что я не спорю с глупцом, оставляя ему жалкое счастье быть правым!
В моей досаде смешивались ярость от того, что мою азиатскую мечту топчут ногами, и похожее на отчаяние чувство, вызванное Ребеккой. Эта холодная, склонная к провокациям девица мучила меня, как терзает образ женщины, чью легенду творит третье лицо. И этот посредник, отнюдь не создавая препятствия между нами, удваивал ее ценность в моих глазах. Меня раздражало именно то, что она существует во плоти — мне бы хватило воображаемой персоны. Но зачем она сжала мне руку под столом?
Спустя час из Местры, порта приписки нашего судна, мы выехали в Венецию на такси, в компании Раджа Тивари. В нашем распоряжении был почти весь день, поскольку «Трува» должна была отплыть только поздним вечером, около двадцати трех часов. Стояла прекрасная погода, которую лишь слегка портил задувавший с открытого моря бриз с запахом йода. Туристов было немного; на Риальто Тивари расстался с нами, поскольку хотел осмотреть собор и Дворец дожей. Мы договорились встретиться позднее в кафе «Флориан». В последний раз я был тут в возрасте двенадцати лет и думал, что увижу одряхлевший город-музей, а открыл само воплощение юности, долгожданный рай — ощущение, будто мы находимся во власти некоего чудесного безумия, развеяло мою печаль. Наше путешествие начиналось именно здесь; с Венецией мы попали уже в Азию, нам даже не довелось ступить на землю, мы просто сменили корабль!
Нежно обнявшись, мы с Беатрисой вспоминали с ребяческой пылкостью энтузиастов прошедшие столетия, когда город был таким радостным благодаря своим карнавалам и долгим бессонным ночам наслаждений. Особенно же благословляли мы вездесущую воду, текучие улицы, умело поддерживаемое смешение жилищ земных и плавающих — и дошли даже до предположения, что по вечерам в Венеции можно покачиваться на волнах в собственной постели, привязавшись, чтобы не упасть. Вот так мы и фланировали, совершенно очарованные, среди шумной разноголосицы, успокоительной по самой своей размеренности: пение птиц в бесчисленных садах, вечно трезвонящие церковные колокола. Проникшись романтической атмосферой города влюбленных, Беатриса напомнила мне о первом годе нашей совместной жизни. Как я сумел полюбить ее? Это не требовало объяснений: она была хороша собой, образованна, и мы разделяли пристрастие ко всему, что написано. Детей у нас не было, но мы планировали завести ребенка, вернувшись из Азии. Наш союз покоился на простых и прочных принципах, мы выбрали верность из ненависти ко всякого рода метаниям и забросили случайные интрижки как нечто малозначительное, подобно другим возможным, но отвергнутым формам существования. Я не ощущал никакого принуждения: разврат всегда казался мне свидетельством неуравновешенности — тем самым мы обезопасили себя от низостей, компромиссов, лжи, свойственных разобщенным семьям. Хотя мы были сожителями, но оставались верными друг другу из презрения к буржуазному адюльтеру. Мы отказались от официального брака, приняв все его ограничения. И как же подтверждала нашу правоту Венеция!
Когда мы подошли к безлюдной пьяцца, все шумы внезапно смолкли. Сладостная, почти тревожная меланхолия окутала окружающий мир безжизненным светом — тем бледно-желтым светом, что исходит от зимнего солнца. Стояла такая тишина, что мы едва осмеливались нарушать ее звуком наших шагов.
— Прислушайся к этой немоте, это безмолвие заговорщиков и влюбленных, предшествующее великим потрясениям.
Едва я произнес эту фразу, как изумительная неподвижность вещного мира разорвалась горестным криком. Сначала мне показалось, что это рыдает младенец. Но надрывное упорство и краткость воплей были, несомненно, животного происхождения. Мы направились в сторону стенаний — они исходили от моста Академии. Там толпились ребятишки и подростки в разноцветных шарфах: склонившись над парапетом, они указывали какую-то точку на Большом канале. В конце концов я разглядел объект их любопытства: крошечный черный котенок упал в воду и отчаянно барахтался, чтобы не утонуть. При каждом проходе катера или моторной лодки зверек наглатывался воды, и писк застревал у него в горле. Каждый раз мы ожидали, что котенок пойдет ко дну, однако он не сдавался и вновь начинал жалобно голосить. В нем таилась поразительная сила сопротивления: он не звал на помощь, а отдавал приказ, которому трудно было не подчиниться. В романсе беззаботной Италии это был голос существа, протестующего против равнодушия, против ужасного одиночества зверушки, заброшенной в мире, где сам человек одинок. Когда он пытался приблизиться к берегу и конвульсивно приподнимался, влажные водоросли не давали ему ухватиться, и его снова отбрасывало в воду. Он двигался кругами, которые вели в никуда, и слабел на глазах. Чем дальше он отплывал, тем большим чудом казались его скоротечные возвращения — это был результат случайности, которую повторить нельзя. Кучка зевак наблюдала за бедствием: спасти котенка можно было лишь водным путем, поскольку с суши доступ к нему преграждал частный сад; но суденышки, оглушенные ревом своих моторов, не слышали его завываний. У всех зрителей горло сжималось от страха, ибо малыш дошел до такой крайности, когда обреченность не вызывает сомнений. Ясно было, что он погиб — мы были свидетелями агонии.
Тогда, перед лицом всеобщей пассивности и желая пресечь этот пронзительный вой, терзавший меня как угрызения совести, я ринулся спасать утопающего. Но безрассудной смелости во мне никогда не было. Я спустился под своды моста, где почву сплошь усеивали бутылочные осколки, забрался на парапет и уткнулся в решетку того самого сада. Табличка указывала, что это канцелярия швейцарского посольства — разумеется, закрытая (была суббота). Я перелез через ограду, протиснувшись между двумя острыми концами прутьев с риском напороться на них. Меня могли бы арестовать, вероятно, даже в тюрьму посадить, но бедственное положение котенка в моих глазах стояло выше законов, охраняющих частную собственность: я наивно говорил себе, что нейтральная страна, подобная Швейцарии, не станет преследовать человека, который пришел на помощь страдающему животному. И потом, разве не желал я в глубине души произвести впечатление на свою подругу? Не было ли тайной фанфаронады в моей решимости? Вскоре я добрался до понтонного моста канцелярии, небольшого деревянного настила, уложенного на сваи, забитые в Большой канал; я звал малыша, протягивал ему руку: одурев от ужаса, он уплывал от меня, унося вдаль визгливые жалобы, которым вторили хриплыми голосами взрослые коты. Я ничего не мог поделать и бесился, что потерпел неудачу так близко от цели. Внизу стоячая гнилостная вода, которая с берега словно светилась солнечным блеском мрамора, походила на густое жирное месиво. На этом текучем проспекте колыхались разложившиеся лохмотья, какая-то утонувшая мерзость смердела под роскошными фасадами дворцов. Со своего места я прочел граффити на итальянском языке, сделанное с помощью пульверизатора: «Избыток прошлого, недостаток настоящего, отсутствие будущего». Сальный поток, заполненный нечистотами, словно бросал мне вызов, не желая отдавать плачущий комок из шерсти и усов, безнадежно увязавший в нем. Зеваки на мосту ободряли меня: маленький хищник был на расстоянии руки, но все не шел на мои призывы, хотя я старался говорить с ним самым ласковым тоном. Я тянулся изо всех сил, наступил на мох, поскользнулся и, как дурак, тоже плюхнулся в воду. Ледяная дрожь пронизала меня сквозь одежду, я наглотался воды и тут же стал отплевываться, отряхиваться. Думаю, тогда я предпочел бы пойти ко дну, чем барахтаться в этой грязной, затхлой изнанке города. Господи! Непримиримые противоречия раздирали человечество, миллионы детей умирали от голода, двенадцать столетий истории протекли здесь до меня, а я рисковал жизнью из-за котенка! Потрясенный этим чудовищным несоответствием, я уже видел себя в роли смехотворного сенбернара, незадачливого рыцаря абсурдной цели. Полагаю, только страх помешал мне утопиться от стыда в этом канале, источающем миазмы клоаки.
Двумя гребками я настиг горластого малыша, закинул его на понтон и, в свою очередь, выбрался из воды. Над головой моей загремела овация. Рукоплескания успокоили мое самолюбие. Продрогший до костей, я перевернул зверька вниз головой, чтобы освободить его от воды, которую он начал изливать, словно бурдюк. Это был уже не кот, а пористая губка, насыщенная влагой и трепетавшая в ритме бешено бившегося сердца. Мышцы у него свело судорогой, он оскалился и выпустил когти, пульсируя как наэлектризованный, не переставая вопить и вырываться, будто пережитое несчастье превосходило банальную опасность утонуть, являлось громадным, непоправимым горем, которое ничем нельзя возместить. Едва я поднялся наверх, Беатриса бросилась мне на шею, развязала свой шарф, закутала орущего малыша. Мне хотелось подлечить его, возможно, забрать с собой, но Беатриса воспротивилась: об этом не могло быть и речи, на борту «Трувы» запрещалось держать животных. К тому же она сама страдала аллергией на шерсть. Оставалось вернуть его в колонию бродячих кошек, поселившихся под одной из арок моста, — пусть они о нем позаботятся. Спасенный продолжал плакать душераздирающим образом, и завывания этой сирены еще долго преследовали нас, когда мы шли по улицам к «Флориану», где я немедля выпил чашку горячего шоколада, чтобы согреться. Меня переполняла глупая сентиментальность, и я почти жалел о том, что не сумел уговорить свою подругу взять малыша. В кафе мы нашли Раджа Тивари, и, невзирая на его удивленное снисхождение, я в мельчайших деталях рассказал ему о своем подвиге. Впав в экзальтацию, наверное не вполне уместную, я вещал: