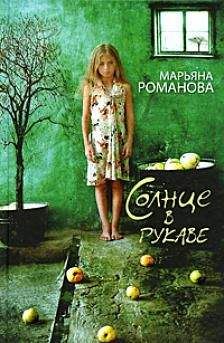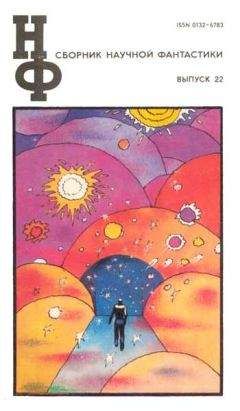– Значит, ты…
– Да, – с улыбкой кивнула она. – Сейчас я закажу себе безалкогольного вина, как бы убого это ни прозвучало. И мы это отметим.
– Но… Как же мне теперь быть? – не спешила радоваться мама.
– В каком смысле?
– Ты не обижайся, но… Я сказала скульптору, что мне сорок три. Я чувствую себя на сорок три. А если у меня появится внук…
– Скажи, что мне пятнадцать, – разозлилась Надя. – Я твоя непутевая дочь-подросток, которая залетела от учителя физкультуры. Кстати, ты ни хрена не выглядишь на сорок три.
Иногда Надя видела это словно наяву. В такие минуты у нее портилось настроение, серело лицо и беспомощно подрагивали ресницы, как будто бы где-то глубоко внутри нее просыпалась другая Надя, маленькая, с дурацкой мальчишеской стрижкой, в собравшихся «гармошкой» колготках и неглаженом платье. И этой маленькой Наде так хотелось плакать, что большая Надя запиралась в ванной, включала воду и, сидя на прохладном кафеле, позволяла себе быть слабой. Хоть на пять минут – этого достаточно, чтобы влажная чернота отступила, ненадолго, до следующего обидного воспоминания.
Ей пять лет. Она сидит на скамеечке в игровой комнате детского сада и прижимает к груди потрепанного тряпичного мишку. От мишки пахнет гороховым супом, у него надорвано ухо, и вообще – это не ее мишка, общественный, но в данный момент никого ближе у Нади нет. Мишка создает хотя бы иллюзию сочувствия, он теплый и рядом, а все остальные – и воспитательница Евдокия Петровна, и нянечка Софья Алексеевна – смотрят на нее так, словно она описалась на торжественной линейке. Брезгливо смотрят, искоса, а разговаривают так, словно ее и рядом нет.
Евдокия Петровна, монументальная дама в пластмассовых бусах, говорит:
– И что нам с этой Суровой опять делать? Вот дождется она, оставлю девчонку на улице. Пусть сидит на лавке и сама ждет свою вертихвостку.
«Вертихвостка» – это она о Надиной маме.
Мама опять забыла Надю из садика забрать.
А на улице – февраль, и давно стемнело. У Нади, как и у многих одиноких людей, живое воображение: она уже видит себя на обледеневшей лавочке, в нарядном красном пальто. Сжимает пальцы в рукавичках и шепчет тряпичному мишке, чтобы тот не боялся и не переживал. Хотя мишку, должно быть, отберут, это же собственность детского сада.
Горячие слезы затекают за воротник шерстяного платья, шея чешется.
– Каждый раз одна и та же история, – вторит ей пожилая нянечка Софья Алексеевна, от которой дети из младших групп стараются держаться подальше, не отдавая себе отчет, почему им так отчаянно неуютно рядом с этой румяной аккуратной старушкой.
Дети-то из старших групп все давно поняли. И Надя тоже знала, в чем дело. Просто Софья Алексеевна – ведьма. Она и в детский сад устроилась на работу потому, что любит поедать маленьких детей. Но поскольку она умна и дальновидна, на людях она ест как все – пересоленные щи и картофельное пюре с паровыми котлетками. Но как только наступает ночь, у нее бледнеет лицо, клыки желтеют и вытягиваются, зрачок становится кошачьим, а на подбородке вырастает покрытая седыми волосами бородавка. Об этом Наде рассказали во время тихого часа, под строжайшим секретом. И с тех пор она цепенела от ужаса, когда водянистый взгляд Софьи Алексеевны останавливался именно на ней.
– Уже половина восьмого, – хмуро смотрит на часы воспитательница. – Муж меня убьет. Он думает, что у меня любовник.
– Пришел бы и сам посмотрел, – хмыкает Софья Алексеевна. – Ладно, давай закрываться. Возьму ее к себе.
Надя разжимает похолодевшие пальцы, тряпичный мишка падает на ковер. «Только не это, только не к ней!» – шепчет она.
– Точно? – сомневается Евдокия Петровна.
Понимает, наверное, что нянечка собирается Надю съесть. Может быть, даже жалеет ее в глубине души. Хотя это вряд ли. Ей же проще будет – в группе останется всего девятнадцать детей.
Надя умоляюще смотрит ей в глаза.
– Ну хорошо, – решается воспитательница. – Оставим на двери записку для этой вертихвостки. – И, обернувшись к онемевшей от страха Наде, приказывает: – Сурова, чего сидишь, одевайся давай!
– Я лучше на лавочке, – беспомощно шепчет Надя. – Мама скоро придет. Я подожду.
Но ее уже никто не слушает. Евдокия Петровна, напевая какой-то шлягер, красит губы в странный морковный цвет. Софья Алексеевна повязывает перед зеркалом оренбургский платок. Сегодня она еще более румяная, чем обычно. Может быть, из-за того, что в комнате сильно натоплено, а может быть… может быть, предвкушает горячую свежую кровь.
Надину.
Надя пытается застегнуть пальто, но пальцы не слушаются. Евдокия Петровна со вздохом ей помогает. Улучив момент, Надя жалобно шепчет в ее перепудренное лицо:
– Пожалуйста!.. Не поступайте так со мной. Я не хочу к ней.
От возмущения голос Евдокии Петровны становится похожим на ночь за окном – таким же ледяным и неприветливым.
– Да как ты вообще смеешь?! Думаешь, мы обязаны с тобой возиться?!
– Она меня съест, – всхлипывает Надя. – Съест же.
Коротко бросив: «Дура!» – Евдокия Петровна нахлобучивает фетровую шляпу с огромным замшевым цветком и уходит.
Дома у Софьи Алексеевны пахнет лекарствами и пряниками. Наде вспоминается сказка о колдунье из пряничного домика. Целую вечность она тянет время в ванной, моет руки ароматным мылом и рассматривает в зеркале свое бледное лицо. До тех пор, пока нянечка не стучит в дверь: «Выходи уже, Сурова! Создает же Бог таких копуш!» Надя замечает на стеклянной полочке под зеркалом маникюрные ножницы и, подумав, прячет их в рукав.
Она не позволит ведьме застать ее врасплох. Будет бороться. В конце концов, добро всегда побеждает зло.
Правда, Надя вовсе не была уверена в том, что она – это «добро».
Скорее всего, она не добро и не зло, просто маленькая беззащитная девочка. Именно поэтому ее сюда и привели.
Софья Алексеевна возится у плиты. Мнет дымящуюся картошку деревянной колотушкой, сверху посыпает мелко накрошенным укропом, ставит тарелку перед Надей.
– Жри вот. Больше у меня ничего нет.
Надя робко устраивается на краешке стула. Она голодна – в животе словно надули крошечный, наполненный садняще холодным воздухом, шарик.
Софья Алексеевна наливает себе вино – темное, как кровь. Надя отводит глаза – неприятно смотреть, как старушка пьет. Сердце колотится, картошка обжигает язык. На стене она замечает черно-белую фотографию – красивая женщина в темной соломенной шляпке прижимает к груди букет полевых ромашек и застенчиво улыбается. Нянечка перехватывает ее взгляд.
– Это ваша внучка? – вежливо спрашивает Надя.
– Нет у меня никаких внучек, – резко отвечает Софья Алексеевна. – Я это, не видно, что ли?
Надя не верит. Конечно, ведьма врет, заговаривает ей зубы. Думает, что раз Наде всего пять лет, она совсем глупая и не может отличить красавицу с ромашками от сморщенной старухи с мясистым носом.
– Столько поклонников было. – От вина (или в предвкушении крови?) у нее заблестели глаза. – Генерал ухаживал один. И еще один, партийный начальник. Мне уже сорок пять тогда было, но я была очень даже… Кочевряжилась. Думала, что навечно такой останусь, раз дотянула до сорока пяти. А потом… Рак нашли. Два года по больницам бегала, потом по бабкам. Мастэктомия, четыре курса химии… В сорок пять выглядела девочкой, а в сорок восемь – почти старухой. Поправилась сильно… Такая депрессия была, жить не хотелось. Все думала, а может, я зря тому партийному начальнику отказала? Был бы у меня ребенок, все не так уныло… Но потом устроилась в детский сад и поняла, что детки такие мне на хуй не нужны. – Она басовито хохотнула и допила вино. – Все сопливые, злые какие-то… Или страшные, ни кожи, ни рожи, как вот ты… Что смотришь на меня так? Что молчишь?
– А можно еще картошки? – помявшись, попросила Надя.
Мама появляется часа через два. Не то чтобы она пьяна – так, немного навеселе. Наверное, выпила бокал шампанского. Она и сама была как шампанское – искрящаяся, с блестящими глазами и серебряным смехом. Надя бежит к ней по коридору, но спотыкается и плашмя падает на паркет. Спрятанные в рукаве маникюрные ножницы, о которых она и думать забыла, летят под ноги Софье Алексеевне. Та поднимает их, с удивлением рассматривает и бормочет: «Еще и воровка. Неудивительно, у такой-то мамаши».
Надя вскидывает взгляд, ждет, что мама вмешается, защитит.
Но мама молчит.
Она пришла не одна, за ее спиной перетаптывается какой-то незнакомый мужик в бобровой шапке. У него пышные усы, и в них блестят льдинки.
Мама и Надя идут домой, незнакомый мужик в шапке плетется за ними, на два шага позади. Мама веселая, возбужденно шепчет:
– Прости меня, малыш. Это Вадим, знакомый Нинки из бухгалтерии. Он из Ижевска, всего на два дня приехал… А она мне про него столько рассказывала. Он ювелир, представляешь?
– Мам, ты же обещала…