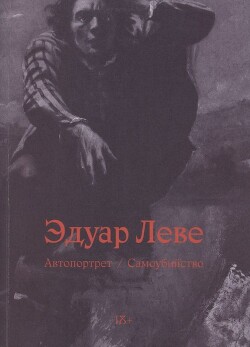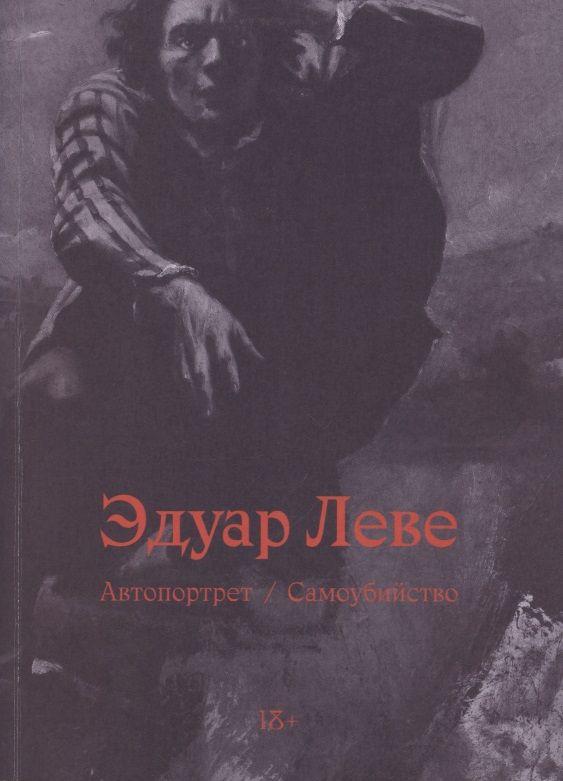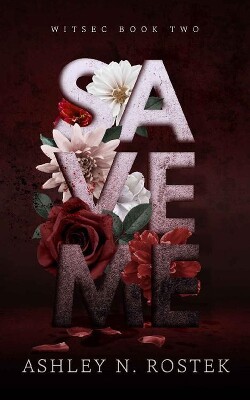Кристоф подошел к тебе с тарелкой, которую приготовил специально для тебя. Тронутый его вниманием, ты взял ее и принялся за еду. Все было пережарено, мясо кое-где обуглилось. Но эти мелочи не могли омрачить твою радость, возможно, она из них и складывалась, поскольку ты не мог приписать ее ничему другому, кроме общения с собравшимися здесь людьми.
Пока опускалась ночь и шли часы, ты беседовал то с одними, то с другими. Когда ты обращался к старому приятелю с глазу на глаз, тебе казалось, что ты говоришь то, что нужно. Но разговаривая сразу с двоими, ты пытался найти слова, способные одновременно затронуть обоих. И находил их редко: близость тел, демонстрирующих свои особенности, напоминала тебе, насколько трудно сообщаться одновременно с каждым. Но если, как произошло чуть позже, ты рассказывал собравшимся тебя послушать какую-то историю, то твои речи уже не пытались адресоваться кому-то конкретно и излагаемое тобой мог воспринять каждый — на свой лад, и тебя не заботило, как именно. Ты видел перед собой уже не личность, а группу, в которой растворялись индивидуальности. Чтобы говорить в свое удовольствие, тебе нужно было быть как можно ближе к тем, кто тебя слушает, в диалоге, или как можно дальше, в речах. В промежуточных случаях тебе казалось, что тебя понимают превратно.
К трем часам ночи, когда, взяв жену за руку, ты слушал, как Кристоф смешит всех приглашенных, никто из которых еще не покинул вечеринку, ты задумался об этих своих разговорах. Ты переходил от одного старого приятеля к другому, ты рассказывал истории группкам из нескольких человек и тебе удавалось общаться с парами, ничем вроде бы в своей речи не поступаясь. Эта вечеринка, на которую ты отправлялся не без опасений, в конце концов тебя очаровала. Ты вошел в некое объединенное воспоминаниями содружество. Никто из пришедших на ту вечеринку не поверил, узнав о случившемся, что ты помышлял тогда о самоубийстве.
Ты знал, что некоторые из твоих близких сочтут себя виновными в том, что не предвидели твое решение, что они будут сожалеть, что не смогли поддержать в тебе желание жить. Но ты полагал, что они ошибаются. Никто, кроме тебя самого, не мог перевесить в тебе тягу к смерти тягой к жизни. Ты представлял себе сцены, как кто-то пытается развеселить тебя — словно мать берет за руку малахольного ребенка и показывает ему на предметы, которые считает веселыми. Отвращение, охватывавшее тебя при этом, объяснялось не неприятием, каковое ты испытывал по отношению к доброжелателю, не природой сулящих радость предметов, им тебе демонстрируемых, а тем, что желание жить невозможно было тебе навязать. Ты не мог быть счастливым по команде, кто бы ни отдал тебе приказ, кто-то другой или ты сам. Познанные тобой моменты счастья были милостью. Ты мог понять их причины, но не мог воспроизвести.
Ты купил в магазине подержанной одежды пару строгих и элегантных английских туфель из черной кожи. Высшего качества кожа была почти новой, но сохранила на себе отпечаток прежнего владельца. Спереди туфли слегка сморщились, вторя форме его ног, схожих с твоими. Когда ты примерил их в магазине, туфли пришлись идеально по ноге, как будто ты проходил в них несколько месяцев. При покупке одежды у тебя вошло в привычку колебаться. Твой гардероб был уже сформирован и, поскольку состоял из строгой простой одежды, не выходил из моды. Покупать что-то новое могло понадобиться только по причине износа старого. Твой выбор диктовала не экономия, а мания к накоплению однотипной одежды. Ты выбирал в магазинах чуть улучшенный вариант того, чем уже обладал, чтобы собрать совершенную коллекцию, универсальную униформу, которая избавила бы тебя от ежедневной обязанности выбирать, как сегодня одеться. Зная, что подобной униформы не существует, ты тем не менее продолжал поиски. Несмотря на то что у тебя имелось множество подобных туфель, ты решил приобрести и эту пару. Случайно наткнувшись на нее в магазине подержанных вещей, ты воспринял это как своего рода знак. Ты еще не знал, чего именно. Тебе предстояло это вскоре узнать. Спустя несколько дней ты зашел на агитационное мероприятие экологической партии в рамках предваряющей региональные выборы кампании. Ты пришел один и после выступлений замешкался у фуршетного стола, намереваясь переговорить с активистами. Экологи привлекали тебя своими идеями, но ты не верил, что они, если победят на выборах, проявят мудрость в управлении. К тебе подошла какая-то пара. Мужчина принялся распространяться о важности сохранения региональных культур, особенно языков, перед лицом глобализации и о повсеместном засилье английского языка. Ты слушал его банальные рассуждения с таким видом, чтобы он мог подумать, будто ты с ним согласен. Его жена хранила молчание. Но вдруг ее лицо исказилось. Она уставилась на тебя в упор, потом опустила глаза, вновь посмотрела на тебя. От всех этих взглядов она явно разнервничалась. И отошла за бокалом белого вина. Ее поведение смутило тебя, и ты погрузился в молчание. Мужчина продолжал свои тирады, пока из-за полного отсутствия всякого отклика не раскланялся с тобой и не направился к кому-то другому. Ты вернулся к столу, чтобы взять у официанта очередной бокал, и с ним в руке стал пробираться сквозь толпу активистов, когда внезапно столкнулся с той же женщиной. Она отозвала тебя в сторону, чтобы поговорить наедине. Она чуть не плакала, у нее дрожали губы. Она узнала туфли, которые были на тебе. Именно их она подарила своему племяннику, а его мать выставила их на продажу, после того как он покончил с собой.
У тебя не было детей. Жена спрашивала, хочешь ли ты их иметь. Ты чувствовал себя недостаточно зрелым и не знал, изменится ли это когда-нибудь. Родить казалось поступком столь важным и таинственным, что ты боялся, что не сумеешь подойти к нему с должной мудростью. Ты не мог не признать, что не в ладах со своей способностью передавать жизнь. Ты не думал, что, зачиная тебя, твои родители были рассудительнее, чем ты в твоем возрасте. Угадывая за их решением эгоизм и легковесность, ты расстраивался. И понимал, что тебя хотели не таким, каким ты стал, а таким, каким они представляли, что ты станешь. Ты чувствовал себя отчасти самозванцем, ибо знал, что если и не разочаровал их, то никогда не походил на взлелеянные ими мечты. Ты, впрочем, не знал, о чем они мечтали, поскольку никогда их об этом не спрашивал. Зачем заводить ребенка? Чтобы продлить свою жизнь и из любопытства увидеть, на что окажется похож твой отпрыск? Тебе снова и снова приходило в голову, что жизнь, которую ты ведешь, не заслуживает продолжения. Но ведь твой ребенок не будет тобой. Он будет самим собою. Не было никаких оснований полагать, что ты передашь ему свою печаль А вдруг он наоборот окажется предрасположен к счастью? И все же, вроде бы отвечая жене, ты оставался уклончив. Ожидая энтузиазма, которого ты не выказывал, она принимала твое молчание за отказ. Ты умер без потомства.
Я не страдаю, вновь думая о тебе. Не могу сказать, что мне тебя не хватает. В моих воспоминаниях тебя больше, чем в нашей совместной жизни. Если бы ты продолжал жить, то, возможно, стал бы мне посторонним. Мертвый ты не менее жив, чем живой.
Ночью тебе не так хотелось умереть, как днем, а утром — как пополудни.
Ты не оставил своим близким письма с объяснением своей смерти. Знал ли ты, почему хочешь умереть? Если да, почему об этом не написал? Из-за усталости от жизни и пренебрежения следами, которые тебя переживут, или потому, что причины, подталкивавшие тебя к исчезновению, казались тебе пустыми? Возможно, ты хотел сохранить вокруг своей смерти ореол тайны, полагая, что ничто не должно быть объяснено. Имеются ли здравые причины для самоубийства? Те, кто пережил тебя, задавались этими вопросами, но не найдут на них ответов.
Твоя мать плакала по тебе, узнав о твоей смерти. Она оплакивала тебя все дни до самых похорон. Оплакивала в одиночку, оплакивала на руках своего мужа, твоего брата и сестры, на руках своей матери и твоей жены. Оплакивала во время траурной церемонии, следуя за гробом на кладбище и во время погребения. Когда многочисленные друзья подходили выразить свои соболезнования, она плакала по тебе. В каждой руке, которую она пожимала, в каждом поцелуе, который получала, ей вновь виделись фрагменты твоего прошлого, тех дней, когда она верила что ты счастлив. Перед лицом твоей смерти сценарии, по которым ты мог бы жить рядом с этими людьми, вызывали у нее чувство безмерной утраты: своим самоубийством ты омрачил свое прошлое и отмел будущее. Она оплакивала тебя и в последующие дни и все еще оплакивает в одиночку, когда думает о тебе. Спустя годы их много, таких как она, у кого при мысли о тебе текут слезы.