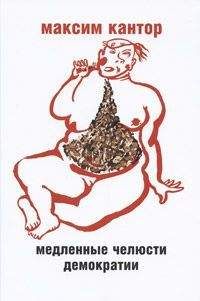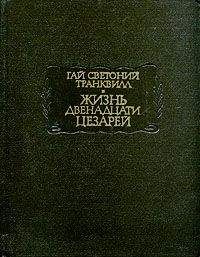По логике вещей рядом с явлением «потерянного поколения» и должно существовать «поколение приобретшее»: числить в одной компании Ремарка и Арпа, Хемингуэя и Дюшана было бы большой несправедливостью. Таких произведений, как «Герника», «Чума», «По ком звонит колокол» и «Доктор Фаустус» было в те годы написано немного, и не авангардисты их написали. Авангардисты как раз создавали вещи прямо противоположные: манифесты «Труп» и «Садок судей», разрезанный бритвой глаз, изображения издыхающих ослов с выбитыми зубами, копошащихся в трупе червей. Не надо путать: это не похоже на изображение ужасов войны Георгом Гроссом или Отто Диксом; те художники изображали страшное, чтобы осудить беду. Здесь же — в мир вбрасывалась чистая освобождающая дух агрессия, агрессия как символ победительного и молодого духа, как знак высшего равнодушия, титанизма. Кокетливые до пошлости скелеты Эрнста, безводно-безлюдно-безжизненные ландшафты Танги, любовь с манекенами, вырванные внутренности, выдавленные глаза, крошево костей и поэтизация насилия и хаоса — все это не просто для того, чтобы шокировать обывателя. Обыватель и его жалкая «слишком человеческая» боязнь — есть материал, из которого строится власть. Человек не понимает черного квадрата — и хорошо! И правильно! Пусть не понимает, пусть страшится зияющей бездны. Страх маленького человека — цемент, крепящий художественную форму. Его унижение — цель знака.
Так создавалась знаковая система войны, знаковая система власти над маленьким человеком. Не Гойя, не Брейгель и не Данте, всегда имевшие христианскую точку отсчета в изображении беды — предтечи этих картин. Дадаизм победно растекся по послевоенной Европе (лозунгом лидеров были слова Бакунина «когда разрушаешь — ты создаешь»), перетекая в сюрреализм. В ту межвоенную пору, когда футуристы только начинали играть в фашизм, а мистик Мондриан, этот голландский Малевич, искал пластический эквивалент «универсальной правде» и звал к «антииндивидуалистическому», когда Дюшан пририсовывал Джоконде усы в знак свободолюбия, когда Бретон утверждал в манифесте свободу от контроля разума и моральных убеждений, когда в Баухаузе воспроизвели «атмосферу мастерских Возрождения», но не добавили в эти мастерские ни йоты знания о человеке, когда Эмиль Нольде и Мартин Хайдегер вступали в партию наци, — словом в ту благословенную пору, когда никто еще не верил в сталинские лагеря, а Гитлер лагеря еще только задумывал, — уже создавали новый тип мышления, который впоследствии обновил мир.
Описывая творчество авангардистов тех лет, всегда находят обтекаемые слова, описывающие некий «бунт», некую «энергию», некий «напор». Между тем эти образы конкретны и нет причин их не воспринимать и не осознавать в конкретности. Напротив, история предъявила причины их осознавать. Это образы патологической жестокости, аморальности и безответственности. Именно это — только еще более масштабно — явила миру та сила, которую обслуживал авангард. Габриэле д'Аннунцио был в буквальном смысле губернатором и диктатором захваченного им городка Фуомо. Симпатии Эзры Паунда и Кнута Гамсуна общеизвестны (кстати, сын Гамсуна сражался на белорусском фронте в дивизии СС «Викинг»); Сальвадор Дали прославлял Гитлера, позже стал франкистом (то есть принял сторону тех, кто расстрелял его друга и любовника Лорку). Бретон учинил один из своих знаменитых скандалов в защиту немецкого духа (на банкете в честь поэта Сен-Поль Ру; несколько позже Сен-Поль Ру умер, не пережив того, что гитлеровцы изнасиловали его дочь и сожгли дом). Маринетти говорил: «Фашизм выполнил программу минимум футуризма», а русские футуристы писали, что связывают себя с новой силой, с той, что будет еще посильнее фашизма.
Никто из авангардистов, разумеется, не собирался воевать, не только с фашизмом, но вообще воевать — Бретон и Дюшан эмигрировали, Танги озаботился освободиться от воинской повинности и уехал в Америку, Дали был там уже давно, Дельво и Магритт жили в Швейцарии и т. д. Когда Тцара (перекрестившийся в коммуниста) обвинил Бретона в эскапизме, тот возмутился. Подобно тому, как Малевич с Родченко пошли в комиссары и оформляли праздники, фовисты признали правительство Виши и ездили на поклон к Гитлеру, и их салонное «дикарство» ужилось с дикарством совсем даже не салонным. Дерен и Вламинк выставлялись в Берлине, Мунк получал поздравления от Геббельса, Маринетти дружил с Муссолини. Примечательно, что из опрошенных французов только старый Андре Боннар, мастер «интимного» жанра, отказался писать портрет Петена. Прочие приняли участие в конкурсе.
Да, тоталитарное искусство есть царство кича; однако немного бы стоил имперский кич сам по себе, если бы его не питали идеи языческих жрецов — Малевича, Мондриана, Дюшана. Авангард высвободил стихию власти, дал ей имя.
Антифашистское искусство, искусство сопротивления идолам, в Европе не прижилось. Его создали тогда, когда стало понятно, что последний рубеж — рядом, и дольше играть в идолов — преступно. Так возникли произведения Белля и Камю, Пикассо, Сартра, Хемингуэя, Мура, Чаплина. Рассказывают, что бойцы интербригад носили с собой репродукцию «Герники»; возможно, это и неправда, да и где бы взять в те годы репродукцию. Но выдумка понятная, в нее веришь. Во всяком случае, трудно представить, чтобы солдат носил в кармане «Черный квадрат» или фотографию писсуара Дюшана. Это было время, когда надо было говорить во весь голос — и не абстрактные заклинания. Как сказал доктор Риэ в романе «Чума»: «Человек — это не идея». Однако в результате долгой войны победил не человек — но метод правления человеком, не свобода, но представление о свободе, победила именно абстракция: новому миру был необходим знак.
Скотт Фитцджеральд вспоминает, что когда Хемингуэй приехал в Париж из Испании на короткий срок и бегал по знакомым, агитируя подписываться на испанский заем, собирая деньги для республики — люди богемы, творцы-авангардисты смотрели на него, как на больного. В сущности, все антифашистские художники находятся вне генеральной тенденции XX века, поскольку основная тенденция XX века — возрождение язычества. Язычество не знает милосердия — и уж не помощи республиканской Испании можно ждать от авангардиста. Уж не социалистическими идеями обуреваем творец полосок. Творец полосок мог отождествлять себя с идеей социализма лишь на определенном этапе войны, когда энергия, производимая им, соответствовала победе социалистического оружия — но убеждений социалистических этот творец не имеет.
Казалось бы — после страшной мировой войны искусство должно было посвятить себя оплакиванию павших и защите сирот — но нет, этого не произошло. В послевоенные годы короткое время были разговоры о создании новой эстетики, о новом гуманизме и т. д. Вероятно, это была последняя попытка эстетики 19 века удержать свои позиции. В послевоенные годы имена Брехта, Чаплина, Хемингуэя, Пикассо, Ремарка — были в моде, но просуществовала эта мода весьма недолго. Закономерно и неуклонно, их оттеснили и заслонили другие, более актуальные имена, шаманы и маги новой знаковой реальности — реальности войны.
Долгую мировую войну за первенство в демократии авангард обслуживал усердно, поставляя свое оружие любой из сторон, едва та делалась победителем. Левый авангард охотно становился правым авангардом, не меняясь при этом, — точно также как бомба, переходя из рук в руки, не теряет своих взрывных свойств. Плакаты победивших франкистов как две капли воды похожи на знаки и плакаты Испанской республики, пропаганда и картины Третьего рейха совершенно неотличимы от советских образцов пропаганды, голливудские фильмы с суперменами до деталей воспроизводят соцреалистическую эстетику, помпезная архитектура Франко похожа на сталинскую, та на гитлеровскую, но все вместе они напоминают рузвельтовскую — и за голову хватаешься: да как же так можно, чтобы и победитель, и побежденный говорили в одной стилистике? Но стилистика была действительно общая — то был стиль власти и войны.
Стереотипной отговоркой от социальной активности у авангардистов всегда было выражение: «я веду свою собственную войну», «я сражаюсь на своем собственном фронте», — эту фразу сказали многие. Имелись в виду, конечно, не конкретные боевые действия (в боях принимали участие утописты, те, кто наивно верил в гуманизм, в то, что человека требуется в минуту опасности защищать), некий общий бой, который ведет авангард. Иногда этот бой называют иным словом — а именно, бунт. Я бунтую против мира, производящего войну, — говорит авангардист, к чему мне участвовать в конкретных боевых действиях?
И это крайне любопытный пункт в рассуждении об авангарде. Дело в том, что авангард всегда бунт симулировал.
Когда Дюшан в 1919 году пририсовал Джоконде усы и бороду (на репродукции, разумеется) жест этот был крайне амбициозен. Значил он следующее: искусство давно живет жизнью, параллельной нашей реальности. Оно тиражируется в газетах, журналах — а на деле не объясняет ничего, не участвует ни в чём. Но в таком случает я, зритель, вправе взбунтоваться и спросить с музейного искусства так же взыскательно, как оно спрашивает с меня — достаточно ли я культурен. Я обойдусь с ним как с газетной фотографией, пририсую Джоконде усы, как политику в журнале. Впоследствии насмешка над произведением искусства сама была объявлена искусством и стала жить по тем же законам, что и картина Леонардо, — ее стали тиражировать, печатать в газетах, помещать в музей и т. п. Жест десакрализации был канонизирован, что довольно нелепо. У Дюшана появилось множество последователей, изрисовавших Джоконду вдоль и поперек, и применивших принцип десакрализации и насмешки ко всему решительно. Энди Ворхол сделал коллаж из двух «Тайных вечерей» Леонардо и т. д. и т. п. На деле музеи никто не собирался разрушать, напротив, выступая против музеев, авангардисты хотели попасть именно в музеи, высмеивая вкусы буржуа, они этим буржуа мечтали угодить.