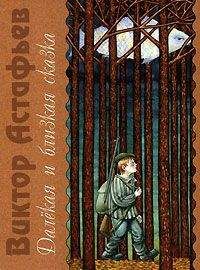Еще когда Алешка был невелик, свела Августу судьба с Тимофеем Храмовым. Большая семья Храмовых переселилась на Слизневский участок из той самой слободы, которую вспоминал я вчера, когда топал по Енисею. Семья Храмовых была тиха, уважительна и работяща. Всеми она почиталась и на лесоучастке, и в селе нашем, безалаберном и приветливом. Однако и в этой семье выделялся мягкостью характера, какой-то юношеской застенчивостью старший сын Тимофей. Он из-за скромности характера так долго и не женился, должно быть. Тимофей даже Алешку как-то сумел к себе приручить, и тот от любви к нему, к отчиму, от благодарности, что ли, выучил и с блаженной улыбкой повторял; «Па-па! Па-па!»
«Ой, война ты, война!» — Я стиснул зубы, креплюсь. Сейчас главное — терпеть и ждать, чтоб Августа выревелась, напричиталась. Иного средства от беды люди еще не придумали.
Тетка все катала и катала свою голову по щелястому бревну.
Я старался не смотреть на ее худую шею с напрягшимися жилами, на скошенный рот, в который ручьем бежали слезы. Меня и самого душило, и с трудом я держался, чтобы не завыть. Выдрать бы из головы горсть волос, если б они были. Изрубить бы чего-нибудь в щепье!
Августа рассказывала мне свою жизнь. И хотя я знал ее насквозь, все равно слушал — она затем и позвала меня. Больше ей теперь некому рассказать о своей бабьей недоле-юдоли, некому пожаловаться на судьбу.
Потом Августа сидела, безжизненно свесив руки, волосы у нее растрепались, лицо опухло; засветились красные жилки в выплаканных глазах, губы и нос тоже распухли.
— Хорошо, что ты пришел, — через большое время слабо и отрешенно вымолвила она. — Надумала я удавиться. И веревку припасла — дрова на ней осенесь из реки вытаскивала. Алешка при месте, теперь не пропадет. Девчонок тоже приберут в детдом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть… — Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубать, кабы не завалился; что пора переходить с бадогов на другую работу — поясница отнимается; что на Манской гриве рыжиков и брусницы будет, по приметам, — хоть коробом вози.
Я сжал лицо руками, сдавил обмороженные щеки, чтоб мне больно сделалось, меня шатало.
— Перестань! — завыл я и затопал ногами, боясь отнять от лица руки. — Перестань! — еще громче закричал я, хоть Августа ничего уже не говорила. Девчонки затопотили по шатким половицам и затихли, снова, должно быть, укрылись под кроватью.
Проснулась Лидка. Ее плач хлестко ударил по ушам.
— Да ты что? — размахивал я руками и горячим шепотом орал: — Ты понимаешь, чё говоришь? Спятила! Не бабушка, ты спятила!
Меня колотило, как прошлой ночью промерзшего до костей колотило в шорницкой. Пытаясь побороть этот сотрясающий все нутро озноб, я бегал по кути, махал кулаками, сбивался с шепота на крик и говорил, говорил какие-то слова о детях, о войне, о фэзэо, о вчерашней ночи, о том, как мне хотелось жить!.. Приводил исторические примеры. Великих людей вспоминал, мучеников и мучениц, декабристок и декабристов; ссыльного Васю-поляка и других ссыльных, кои никогда не переводились в нашем селе. Пришла на ум недавно прочитанная книга о Томмазо Кампанелле[219].
— Вон Кампанелла — итальянец! — громовым голосом вещал я, бегая по кути. — В крокодиловой яме сидел! В воде по горло! На колу сидел — не сдавался! Даже книжку сочинял. «Город солнца» называется. Про будущее про наше. Как все станут жить в радости и согласье…
Тут я обнаружил — Августа внимательно на меня смотрит и слушает. Девчонки тоже вылезли из-под кровати и внимают с открытыми ртами. Я споткнулся средь кути и конфузливо умолк.
— Какой ты у нас умнай человек! Откуда чё и берется? Вот бы бабушка-то послушала… — Августа опять что-то поцепляла щепоткой во рту, затем промакнула платком лицо и отстраненно вздохнула.
Огонь прилил к моему и без того пылающему лицу, и я поскорее принялся крошить ножиком табак. Лийка полезла на скамейку — отрывать очередной листок календаря на цигарку.
Тетка еще посидела, затем неторопливо повязалась платком. Ровно передышку она сделала среди трудного пути и снова снарядилась в дорогу, подготовилась к делам своим, вечным, миру не заметным.
Долго закуривал я, обстоятельно и никуда не мог спрятать глаза. «Оратор! — изничтожал я себя. — Олух царя небесного! Еще стишки бы почитал, песенки продекламировал…»
— Табак и в самом деле крепкий, — буркнул я, засовывая в печку окурок. — Надо Кешу позвать.
Кеша парень хозяйственный. Вместе мы скорее обмозгуем обстановку и обязательно что-нибудь придумаем, хотя и говорится: деревенская родня что зубная боль, да куда ж без нее? Припрет, так сразу о ней вспомнишь.
* * * *В детстве Кеша питался одним молоком, и оттого шея у него была тонкая, голос еле слышен, а глаза, как у теленка, с тягучей, сонной поволокою. Нрава он для нашего села неподходящего. Драться не умел и не любил. Если его дразнили, обирали, тыкали — молчал или плакал, и слезы катились по его незащищенному лицу так, что жалко становилось Кешу. Мы, его братья, родные и двоюродные, почему-то думали, что он больной, и обороняли наперешиб, и однажды я чуть было не утопил парнишку, нагло отобравшего у Кеши игрушки, что, впрочем, не мешало, как я уже рассказывал, обчищать братана, играя в бабки или в чику.
Кончилось дело тем, что Кешу задирать и дразнить перестали даже такие оторвы, как Санька левонтьевский, а он, довольный таким положением, играл сам с собою, мастерил из ивовых прутьев упряжь для бабок, рано научился плести корзины, потом вязать сети, плотничать, столярничать, огородничать.
Как-то незаметно для всех Кеша сразу из парнишки превратился в мастерового, домовитого мужика, и пока мы еще лоботрясничали, вытворяли разные штуки, не желая разлучаться с детством, он уже вел хозяйство, которое охотно уступил ему дядя Ваня, склонный больше к рассуждениям насчет работы, чем к самой работе.
Само собой, вся наша родня и особенно бабушка ставили Кешу в пример, восторгались его положительностью, а он стеснялся, что укором является, и всячески выслуживался перед нами. Слух был — Кеша до сих пор попивает вареное молоко из нарядного детского сливочника, только тетя Феня сливочник ныне на ставит на окно, скрывает слабость сына, потому что зачастила в дом девица с заречного подсобного хозяйства, тоже положительная, с медицинским образованием, умеющая вязать носки и рукавицы, также строчить шторы.
— Как живешь? Все молочишко попиваешь? — Я, как всегда, встретил братана зубоскальством.
— Корова стельна, — как всегда, отбился Кеша. Он забросил рукавицы на печь, повесил на гвоздь полушубок и прошел в передний угол. На нем была клетчатая рубаха со множеством пуговиц, аккуратно подшитые валенки с загнутыми голенищами. Кто-то лесенками постриг братана, оставив косую челку, и под корень истребил косичку, которая, сколь я помню, всегда сусликовым хвостиком свисала в желобок его худой шеи.
Кеша рассматривал меня, как это только он умел делать, с нескрываемым родственным сочувствием, и никакие мои фэзэошные насмешки на него не действовали, вся его любовь ко мне и ко всем нам жила на его постноватом лице.
— Хоть бы с невестой меня познакомил, — продолжал я подначивать братана. — Мастерица, говорят. Пальто бы мне зашила, по-свойски.
— Лёлька успела наболтать! — посмотрел Кеша в горницу, где убирала постели Августа и делала вид, будто нас не слышит. — Кака невеста? В Березовку вызывали, в военкомат, на освидетельствование. Призовут скоро.
Мы так давно и прочно приучили себя драться за Кешу, оборонять малого от всяких напастей, охранять уединенность его, что до меня не сразу, не вдруг дошло это сообщение. Но чем он лучше или хуже других, мой братан Кеша? Никто из нас для войны не рождался. Такие же, как он, мирные люди топают сейчас в запасных полках, колеют на морозе, голося: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» — и на фронт, воевать. Только трудно, ох, трудно будет братану там, в совсем другой, непригодной для него жизни, в казарменной тесноте, вдали от отца-матери.
И не заслонишь его собою.
Мы пилили с Кешей дрова, кололи чурки, я нет-нет да и поглядывал на него, пытаясь представить братана в военной форме, в строю, в сраженье, и ничего у меня не получалось, а он угадывал мое беспокойство и непривычно много говорил — успокаивал не столько меня, сколько себя.
— Нано нак. Люни ж там всякие нужны. Может, при мастерских устроят?
Мы испилили дрова, нарубили табаку, оставили несколько вязанок корней — это уж на самый крайний случай. Табаку-самосаду насеялось почти полмешка. Августа продаст его перекупщикам, которые стаями рыскали по деревням в надежде чем-нибудь поживиться. На вырученные деньги тетка прикупит сена. Если удастся отстоять и вывезти сено с Манской речки, с нашего давнего покоса, который перешел Августе, корову она, пожалуй, до травы дотянет.