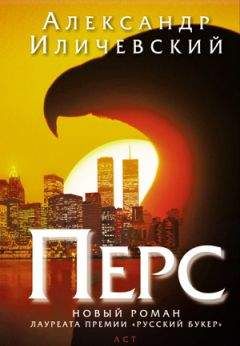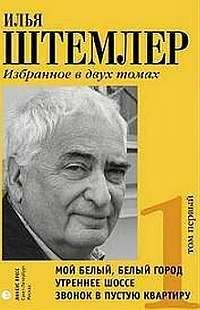Она исчезла внезапно, встала и ушла, не дала мне опомниться, умница. В тот день мы ездили к океану, наш любимый променад вдоль берега — мимо играющих во фрисби детей, мимо групп йогов и ушуистов, мимо стартовой площадки дельтапланов вверху на семидесятиметровом обрыве, у форта с огороженными дорожками и сквозными насыпями — укреплениями береговой артиллерии, мимо песочного желоба, с которого скатывались на берег смельчаки из ребят, вытянув ноги, прижимая кулаки к бедрам, — уходили мы часа на четыре, затем ужин в рыбном ресторане, чуть дальше к югу. В тот день fish of a day был палтус, запеченный в пальмовых листьях, белое вино с водой, зажаренные кольца кальмара, шпинатовое масло с булкой — всем этим ее стошнило в море с пирса. Мы вернулись домой, и она тут же стала собираться. Я ничего не спрашивал, стоял в дверях и судорожно придумывал спасительные варианты — в больницу? к подруге? У нее нет подруг, значит, в больницу, на сохранение, потянет ли моя страховка?..
Тереза торчит во мне, как стрела в солдате, еще позволяющая передвигаться, сдерживая кровопотерю.
Она приехала в Калифорнию по университетскому обмену, отучилась год и осталась нелегалкой. Раздавала флаерсы, а на заработанные копейки покупала пончики и платила за койку в студенческой коммуне. Работала в пиццерии. Разрисовывала керамику в магазине русских сувениров. Тогда ей и пригодились впервые уроки русского, в соцстранах учили имперский. Я женился на ней, отлично понимая, что ей нужна лишь гринкарта, но я был благодарен судьбе.
Тереза уезжает, а я вдруг соображаю, что, возможно, она захочет избавиться от ребенка, — и мечусь по городу, гадая, куда она поехала, мне страшно, что где-то там без моего ведома она что-то делает с нашим сыночком. Я даже не сопротивлялся помешательству. Я сошел с ума из одного только инстинкта самосохранения.
От беспомощности я поехал в полицию. Там развели руками, затем вышел какой-то человек с папкой в руках и строгим голосом сообщил, что согласно законам штата мои действия сейчас могут быть расценены как противоправные, ибо я посягаю на свободу личности. Я поспешил уйти. Полисмен, огромный черный парень, помощник того строгого чувака, проводил меня к машине, он заканчивал смену и собирался отвалить. Предложил мне зайти в бар на углу площади вокруг Civic Center, я согласился, надеясь получить от него совет или какие-нибудь сведения. Запьянев, он стал мне говорить: «It's a life, man. You fuck life until it fucks you».[25] Он явно скучал, этот здоровенный парень с пустотой в глазах. Наконец, к нему подвалил приятель, дерганый чувак с бородкой, поскребший мне ладонь указательным пальцем, когда я поздоровался с ним, и я понял, что пора сваливать.
Месяц я бесновался. Нанял частного детектива — невротического типа по имени Хал Сигальдо, небритый парень, совсем не деловитых манер, но он мне был по карману и мне понравилась его конторка на Buchanan — прокуренная, сумрачная, вся полосатая от солнечного света, сочащегося сквозь рыбий остов жалюзей. Отрешенно мрачный и, казалось, нерасторопный, он искал Терезу два месяца. Я думал, он только делает вид, но он нашел ее — через запись приемного покоя частной женской клиники в Orange County. Информация была добыта нелегально — через организацию противников абортов, подпольно внедрявшихся во все женские клиники, ко многим частным образом практикующим врачам.
Тогда-то все и решилось. Я взял его на руки — новорожденного моего сына, мне всегда казалось, что у меня должен быть сын. У меня не было выхода. У меня тогда не было выхода. Нет его и сейчас. Я стал нянчиться с ним. Через год я снова нанял Сигальдо. И он нашел ее, уже замужем, в Лондоне. Я поехал и три дня наворачивал круги в Mayfair, вокруг квартала, где находился ее дом. Они вышли на прогулку. И я увидел Марка. Прокрался за ними в парк к королевскому дворцу. Что было дальше, я уже рассказывал…
И вот теперь я вижу ее здесь, в пыльном темном птичнике, перед клетками с хубарой, рядом с человеком, который остервенело фотографирует хубару и возвращается щелкнуть ее еще раз, уже после того, как Хашем выпроводил всех наружу. Хашем стоит и ждет, когда этот синеглазый блондин с поднятыми на лоб темными очками закончит. Тереза стоит пред Хашемом и откровенно разглядывает его — великанского растамана с блаженной улыбкой на лице под грозно сросшимися бровями.
Вот она здесь вся. Никакой таинственности — она видна здесь во всех ракурсах: и доброй, и равнодушной, и великодушной, и злой. Способной на жестокость и на огромную жалость, с глазами, полными слез. И целомудренной, и страстной. Я смотрел на нее и вспоминал, как мчался, презрев светофоры, в аптеку за обезболивающими, когда ее прихватил менструальный приступ. И вспомнил про Джонсонов, у которых она работала недолго нянечкой. Для того чтобы легализоваться, она прибегла к помощи этой баптистской семьи, очень доброй и набожной, обрела в них понимание, полюбила эту благообразную многодетную с эксцентрическим чувством юмора чету. Джонсоны возжелали решить ее проблемы законным браком и хотели, чтобы она вышла замуж за человека благочестивого. Так что, когда Тереза собралась за меня, Джонсоны прибыли ко мне с инспекцией, смотрины прошли на ура. И Мишел, и Бен изучали меня в открытую, а Тереза держала на коленях стопку баптистской пропаганды, которую перелистывала и голосом хорошей девочки объясняла мне, что к чему в их теологии. Я сначала бесился. Но потом вовлекся в игру и, пролистав Библейский атлас, вступил в разговор с Беном. Мишел смотрела на меня с открытым ртом и радостно кивала моим словам, так что я даже вошел в азарт. Я потом продолжил завоевывать расположение Джонсонов, ходил на баптистские собрания, где поют аллилуйя под электрогитару с бубном и пляшут как очумелые.
Наконец мы поженились. Стали жить вместе — поживать, Тереза иногда ездила к Джонсонам в гости, возилась с их детишками, ни имен их постичь я не мог, ни сосчитать… Когда забеременела, плакала с твердым жестоким лицом, залитым глазами. Будто я нанес ей жестокое оскорбление, вызвавшее слезы. Я не переношу слез — ни своих, ни чужих, я был оглушен и всюду таскался за ней, она же вела себя так, будто я над ней надругался. А потом я стоял и смотрел, как такси въезжает к нам на круг, делает оборот, ища нужный номер дома, и водитель, лиловый щуплый индиец, еле справляется с чемоданом и крышкой багажника.
5
Хашем заводит мотоцикл Аббаса, тщательно мыском отводя рычаг в сторону, целясь дрыгнуть им вниз порезче. Делает он это неустанно, взяв руль за рога, подкручивая ручку газа. Я каждый раз замираю, когда его нога зависает перед тем, как ринуться вниз, послав поршни навстречу друг другу. Я ожидаю, что после сочного хлопка взревет движок, задымит труба, горячим выхлопом ударяя, будто кисточкой, в ноги, и мы вскочим и помчимся, отрывая на виражах коляску: еженедельный объезд всех кордонов занимает полдня, мы вернемся уже после заката, на мягких лапах, потихоньку нащупывая в звездных потемках мутной, ныряющей фарой след протекторов. Кое-где по земле вспыхивают стеклянные зенки ночных охотников…
Мотоцикл никак не заводится, Хашем отходит в сторону, перекур.
— Ты извлек из «Досок» формулу?
Хашем прищуривается от дыма.
— Да.
— Она работает?
— Я знал, когда ты придешь. 17 октября 200… года. Ошибся на день.
Хашем закусывает фильтр и снова берется за руль, заносит ногу.
…Мы с Хашемом дрались друг с другом только три раза в жизни. Один раз он кинулся на меня, когда заставлял преодолеть страх высоты — в предгорьях на спуске к Гиркану: темнело и не было иного пути, кроме как спуститься через водопадный двухколенчатый колодец — швырнуть вниз рюкзаки и босиком в распорку, по гладким стенкам… «Все просто! Страх побеждается примеркой иной роли. Ты только представь, что не боишься, ну нисколечко!» — увещевал меня Хашем. Но не тут-то было. Нашла коса на камень. До сих пор под ложечкой сосет при воспоминании. Другой раз мы столкнулись в изнурительном походе, когда голодали уже четвертый день. Не рассчитали рацион, сожрали все запасы на середине безлюдного маршрута у границы с Дагестаном. Если бы пастухи нас не накормили, совсем бы сдохли. На тропе жевали незрелую мушмулу. Такой способ путешествовать Столяров называл «укрощением надпочечников». Ссора полыхнула на ровном месте, мы просто опомниться не успели, как кинулись друг на друга. А после — месяц, больше — не разговаривали, избегали внешкольных встреч. Хашем запропал тогда в театре, я устал искать способа примириться и пошел со Столяровым в серфинговый поход. Доски мы нагрузили гермомешками и потихоньку шли вдоль берега, через четыре-пять часов высаживаясь для перекура. Тогда как раз впервые я и познакомился с Ширваном — мы шли до устья Куры и по правую руку тянулось его степное море, оно влекло себя пересечь. В том походе я читал Шаламова и, потрясенный, примчался к Хашему с книжкой в руках. Я прочитал ему рассказ, где заключенные роют шурф. Где говорится, что изнуренные люди всегда злые, что они бросаются друг на друга по любому поводу.