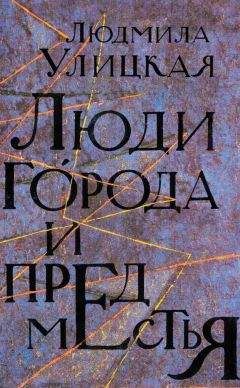Все пионерские лагеря были на первый взгляд одинаковы: линейки, подъем и спуск флага, белый верх, черный низ, штапельный треугольник красного галстука, пионерские костры и бодрая песня «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры — дети рабочих…»
Но дети рабочих и простых инженеров, в отличие от пионеров артековских, отборных и качественных, пользовались коммунистическими благами попроще и подешевле. Вместо моря им предлагалась маленькая речка Серебрянка, бывшая Поганка, хлеба по два куска к обеду и сахара — по два куска к завтраку, а не кто сколько захочет, как в «Артеке». Спали поотрядно, по двадцать человек в палате. Зато погода в то лето в Подмосковье была прекрасная, свежие саморастущие сосны на территории заводского лагеря были ничуть не хуже бочковых пальм, понатыканных на аллеях «Артека», и Женя Воробьева первые два дня лагерной жизни чувствовала себя отлично. Единственное, что омрачало ее девичью жизнь, была деревянная уборная, в которой на длинной доске было вырезано восемь круглых дыр, но никаких перегородок между ними не было. И она все никак не могла остаться одна, а ей для исполнения естественной нужды требовалось почему-то благородное одиночество. На третий день она даже сбежала во время мертвого часа с территории лагеря в близлежащий лесок, чтобы там подчиниться неизбежному закону природы. Но ее побег был немедленно обнаружен, по лагерю подняли сигнал тревоги, и она была изъята из-под кустика с большим позором. Больше она таких попыток не делала, но и рассталась с мечтой освободить свой застенчивый кишечник, который всё отказывался работать при стечении народа, хотя и женского.
Живот сильно болел, есть она совсем перестала, а за два дня до окончания смены она потеряла сознание, и ее отправили в Можайскую больницу, где ей сделали полостную операцию, и она выздоровела довольно скоро, так что на занятия в школу опоздала всего на десять дней.
Артековский загар еще не сошел с Маши, когда бледная Воробьева появилась на занятиях. Маша ждала возвращения подруги с нетерпением, переполненная рассказами о пионерском лете. Воробьева слушала со вниманием восторженные рассказы об острых радостях и наслаждениях «Артека», об испанской девочке Терезе, дочери политэмигрантов, и о другой девочке, дедушка которой сидит в американской тюрьме, потому что борется за мир, и про письма, которые они писали всем отрядом в дружественную Болгарию, в такой же пионерский лагерь, но на другом берегу Черного моря. Маша даже хотела отвести Воробьеву в кабинет географии, чтобы показать, где именно находится город Варна, в котором дружественные болгарские девочки отвечали им на приветственное письмо. Воробьева не удивлялась интересности Машиной жизни — это было естественно и в своем роде даже справедливо, что Маше всё это доставалось. Единственный вопрос, который хотела бы задать Воробьева, — была ли у них уборная общая или разделенная на кабинки. Но постеснялась.
Еще Маша, закатывая глаза и начиная вдруг немного шепелявить, рассказывала о вожатом Аркадии, студенте института международных отношений, куда берут не всех подряд, а только детей дипломатов, и этот самый Аркадий прожил всё детство во Франции, потому что он из дипломатической семьи. И мелькнуло в воробьевской голове, что и Маша уж на что высоко стоит, но и над ней кто-то возвышается, и она смотрит на вожатого Аркадия снизу вверх, с почтением, за его дипломатическое детство, проистекавшее в городе Париже. Маша опять позвала Воробьеву заглянуть на перемене в географический кабинет, до которого они вообще-то не доросли, так как только перешли в четвертый класс и географии еще не проходили. И действительно, они поднялись на третий этаж, постояли там перед большой картой, и Маша нашла и показала подружке и город Варну на берегу Черного моря, и город Париж посреди неинтересной суши, а потом шепнула:
— Вырасту — тоже поеду в Париж.
Наглость и заведомая ложь были в таком заявлении. Воробьева даже хотела ей сказать, чтоб не завиралась, но потом промолчала: от Маши всего можно было ожидать.
Вообще Воробьева чувствовала свою неполноценность рядом с Машей, хотя Маша училась неважно, а Воробьева была почти отличница. Но дело было в тонком обстоятельстве, что, кроме знаменитой мамы, особенного дома, дачи, машины с шофером и еще бессчетного множества очень значительных мелочей, Маша, несмотря на десятилетний возраст, была идейная и партийная, а Воробьева в себе этого совершенно не ощущала и всё не могла забыть, как Маша горько плакала в прошлом году, когда объявили о смерти товарища Сталина, как густо текли слезы в щели между розовыми пальцами, сцепленными на лице, как сотрясались крылышки черного фартука, в то время как сама Воробьева страдала только от глубокого одиночества, от своей черствости и грубости. Тогда нашелся только один человек, кроме Воробьевой, который не горевал вместе со всей страной, — старик-сосед Коноплянников, который напился и орал в коридоре: «Подох! Подох кровопийца! Поди, думал, смерти на него не найдется!»
С самого дня смерти товарища Сталина пил сосед подряд несколько дней, а потом помер от водки, и его долго не могли похоронить, и в квартире пахло мертвым телом. Тогда Воробьева и почуяла в первый раз этот запах, от которого внутри всё немело.
Девочки бурно дружили на уроках и на переменах, иногда вместе делали уроки, ходили на каток, Маша — в толстом свитере и красной нейлоновой куртке, Воробьева — в лохматом лыжном костюме. Хотя Воробьева на своих прочных ножках каталась лучше, чем Машка на своих спичинках, все мальчишки приставали к Маше и ставили ей подножки, чтобы она падала, а потом они ее поднимали, как будто невзначай лапая ее за толстый свитер. Воробьева не обижалась. Они возвращались с катка — обычно Воробьева сначала провожала до подъезда Машу, а потом шла домой: Элеонора Яковлевна просила доводить Машу до дверей, потому что беспокоилась. Летом Воробьеву иногда приглашали на писательскую дачу, и она проводила там несколько дней, объедая клубнику с грядок, взлелеянных няней Дусей, и читая лохматые книги, совершенно не похожие на те, что выдавали в школьной библиотеке. Их было множество. Воробьева лежала в гамаке и читала никому не известного Лескова. У Элеоноры была потрясающая библиотека, даже на даче…
С самого начала седьмого класса Маша стала готовиться к поступлению в комсомол. Ей туда очень хотелось, а Воробьева как будто хотела уклониться, но Маша укоряла ее в мещанстве и обывательстве, и Воробьева никак не могла объяснить ей — и даже себе самой, — что против коммунизма она никак не возражает, скорее, противится ее оперированный кишечник…
В конце седьмого класса Маша открыла подруге под свежее «честное комсомольское» большой секрет: сестра Саша, не достигшая и шестнадцатилетия, завела себе настоящий роман с одним мальчиком, десятиклассником не из обыкновенной, а особой художественной школы. Они, можно сказать, поженились, потому что когда мама уезжает в поездки, он живет у них дома, ночует прямо в их бывшей детской, а Машу переселяют на это время в гостиную. И еще: Саша перестала ходить в школу, курит в открытую и, когда мамы нет, надевает ее шубу из опоссума. Кто был тот опоссум, Воробьева не знала.
Отношения у сестер в это время сильно испортились, они шумно ссорились, ругались. Маша рыдала, потом сестра ее жалела и приглашала к своим гостям, которых было множество — взрослые молодые люди, художники из последнего класса художественной школы, которые скоро должны были поступать кто в Полиграф, кто в Строгановку, кто собирался в питерскую Муху.
Молодые люди были как на подбор — все красивые, одетые особенным образом, в свитерах, в шарфах, но лучше всех был Сашин Стасик. У него был вельветовый пиджак. Девушки тогда ходили в «фестивальных» юбках, утянутые в талии и распространяющие вокруг себя насборенное пространство. В моду вошли нижние юбки. У Маши была толстая нижняя юбка из поролона — ей мама привезла из Венгрии, а талия у Маши была сорок семь сантиметров, чего практически на свете не бывает. Маша была похожа на абажур, только лампочка маленькой головы на тонком шнуре шеи помещалась не внутри, а снаружи. Пили сухое вино и танцевали.
Особенно прекрасные вечеринки удавались в те дни, когда Элеонора уезжала по своим писательским делам за границу. Никто никуда в те годы не ездил, кроме особо избранных. В один из таких дней пригласили и Воробьеву. Она тоже нацепила широкую юбку, перетянулась в поясе лаковым ремнем и села в угол. Разговаривали о Хрущеве. Его ругали, над ним смеялись, а Маша со всеми дерзко спорила, говоря, что отдельный руководитель может и ошибаться, но есть генеральная линия партии, а партия не ошибается. Женя молча удивлялась, до чего же Маша независимая — что думает, то и говорит. Несмотря на то, что не только поддержки в этом кругу блестящих молодых людей не имеет, но даже несколько смешно выглядит…