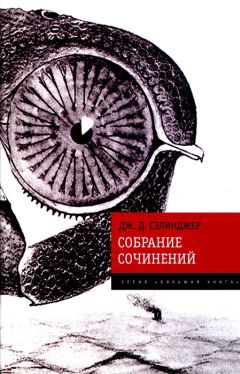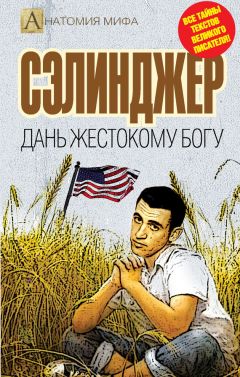Может, мне тут стоит чуть больше попереживать, не навернусь ли я с борта, зайдя слишком далеко в этих разговорах про его лицо — его физическое лицо. Допускаю — с готовностью: мне в определенном смысле недостает совершенства методов. Возможно, с этим описанием я переборщил. С одной стороны, вижу, что уже обрисовал почти все черты его лица, а жизни оного даже не коснулся. Сама эта мысль — я ее не ожидал — потрясающе угнетает. Однако даже пока я ее в себе ощущаю, даже пока тону с ней, некая убежденность, что была у меня с самого начала, остается нетронутой — ей уютно и сухо. «Убежденность» — вообще не то слово. Тут речь скорее о призе для лучшего гурмана наказаний или о сертификате стойкости. Я чувствую, у меня есть знание, некая редакторская интуиция, что выработалась из моих неудачных попыток в прошедшие одиннадцать лет описать Симора на бумаге, и знание это подсказывает мне: недомолвками его не постичь. Вовсе наоборот. С 1948 года я написал и нарочито театральным манером сжег по меньшей мере десяток рассказов или набросков о нем — и некоторые, говорю я, хоть и зря говорю, довольно-таки живые и читабельные. Но они — не Симор. Сооруди для Симора недомолвку, и она обратится — заматерев — в ложь. Художественную ложь — возможно, а иногда и аппетитную, однако ложь тем не менее.
Сдается мне, ложиться не следует еще час-другой. Вертухай! Проследите, чтобы этот человек не лег спать.
Но многое в нем ни в малейшей мере не напоминало горгулью. Руки у Симора, к примеру, были очень изящные. Я помедлю называть их прекрасными, поскольку не хочется опускаться до совершенно отвратного выражения «прекрасные руки». Ладони — широкие, мышца между большим и указательным пальцами казалась неожиданно развитой, «сильной» (кавычки необязательны — бога ради, расслабься), однако пальцы — дольше и суше, даже чем у Бесси; средние же пальцы выглядели так, будто их следовало измерять портновской лентой.
Я думаю о последнем абзаце. Иными словами — о том личном восхищении, что в нем отразилось. До какой степени, задаюсь вопросом я, можно позволить человеку восхищаться руками брата, чтобы не воздевались современные брови? С юных дней, папа Уильям,[354] моя тяга к другому полу (если не брать во внимание несколько, скажем, не всегда добровольных вялых периодов) часто служила довольно обыденным поводом для слухов на некоторых моих старых Семинарах. Однако теперь я не могу не припомнить — быть может, чересчур живо, — что Софья Толстая в какой-то своей, ничуть не сомневаюсь, тщательно спровоцированной семейной дрязге обвинила отца ее тринадцати детей, старика, домогавшегося ее каждую ночь их жизни в браке, в гомосексуальных наклонностях. В целом, я думаю, Софья Толстая была женщиной примечательно невыдающихся способностей — и атомы мои, более того, организованы таким манером, что я по самой природе своей склонен полагать: обычно дыма не бывает без клубничного «Джелло», без огня же дым случается сплошь и рядом, — но я крайне подчеркнуто верю, что в любом прозаике, для которого либо все, либо ничего, и даже в том, кто на писательство претендует, в огромной мере присутствует гермафродит. Мне кажется, если прозаик хихикает над писателями-мужчинами, которые носят невидимые юбки, делает он это к собственному непреходящему риску. По сему поводу я больше ничего не скажу. Это именно тот сорт уверенности, который можно очень легко и смачно Оскорбить. Чудо, что на печатной странице мы не так трусим, как на самом деле.
Голос Симора, его невероятную гортань я здесь обсуждать не могу. Мне даже толком не на что сперва опереться. Просто скажу пока — своим голосом, непривлекательным и Детективным: голос, которым разговаривал он, был лучшим совершенно несовершенным музыкальным инструментом, что мне доводилось слушать часами. Повторяю, однако, что мне хотелось бы отложить полное его описание.
Кожа у него была смугла или, по крайней мере, располагалась на очень дальнем, безопасном краю спектра от землистой, и необычайно чиста. Все отрочество он проходил без всяких чирьев, и это как озадачивало, так и раздражало меня до крайности, поскольку питался он примерно теми же кучами провизии с уличных тележек — как выражалась наша мать, Негигиеничной Едой, Которую Готовят Грязные Люди, Никогда Не Моющие Рук, — что и я, пил по крайней мере столько же бутылочной газировки, что и я, да и мылся наверняка не чаще меня. Если уж на то пошло, мылся он значительно реже. Он бывал обычно так занят присмотром за тем, чтобы остальная шайка — в особенности двойняшки — мылась регулярно, что зачастую сам просто не успевал. Что отбрасывает меня — это не очень удобно — назад, к теме парикмахерских. Как-то днем по пути на подстрижку он как вкопанный вдруг остановился посреди Амстердам-авеню и спросил у меня очень рассудительно — а вокруг в обе стороны неслись грузовики и прочий транспорт, — не буду ли я сильно возражать, если подстригусь без него. Я оттащил его к бордюру (хорошо бы получить по никелю за каждый бордюр, к которому я его оттаскивал и ребенком, и взрослым) и ответил, что, разумеется, буду. У Симора сложилось ощущение, что у него не очень чистая шея. И он намеревался избавить парикмахера Виктора от вида этой оскорбительно грязной шеи. По сути, она и была грязной. Не в первый и не в последний раз он сунул палец под воротник рубашки и попросил меня поглядеть. Обычно эта область патрулировалась, как следует, но когда нет — мало не казалось.
Вот теперь я по-настоящему должен баиньки. С первым лучом зари Декан по Женской Части — милейшее существо — приходит завтра пылесосить.
* * *
Тут где-то должен всплыть ужасный вопрос одежды. Как изумительно удобно было бы, если б писатели позволяли себе описывать одежду своих персонажей предмет за предметом, шов за швом. Что нам не дает? Отчасти — склонность либо загибать читателя, с которым мы никогда не встречались, в позицию, либо оправдывать его за недостаточностью улик: позиция — когда мы не приписываем ему нашего знания людей и нравов, недостаточность улик — когда мы предпочитаем не верить, что у него под рукой те же мелочные, изощренные данные, что и у нас. Например, когда я прихожу к своему подологу и натыкаюсь в журнале «Ку-ку» на снимок некоего многообещающего американского общественного деятеля — кинозвезды, политика, только что назначенного президента колледжа, — и человека этого показывают нам дома, с гончей у ног, Пикассо на стене, а на человеке охотничья норфолкская куртка, я обычно бываю очень мил с собакой и достаточно учтив с Пикассо, но когда дело доходит до выведения заключений касаемо норфолкских курток на американских общественных деятелях, я могу оказаться непримирим. Если, то есть, меня с самого начала не привлекает данная личность, куртка все и решит. Из нее я заключу, что горизонты личности расширяются слишком, на мой вкус, чертовски быстро.
Поехали. Чуть повзрослев, мы с Симором принялись одеваться кошмарно — каждый по-своему. Странновато (да нет, не слишком), что мы и впрямь так жутко одевались, поскольку маленькими, мне кажется, смотрелись удовлетворительно и непримечательно. На ранней стадии нашей карьеры радио-исполнителей Бесси обычно водила нас покупать одежду в «Де-Пиннас»[355] на Пятой авеню. Как она вообще обнаружила это степенное и приличное заведение, можно лишь гадать. Мой брат Уолт — при жизни весьма элегантный молодой человек — подозревал, что она просто подошла к полисмену и спросила. Вывод не очень неразумный, поскольку наша Бесси, когда мы были детьми, обычно с самыми узловатыми своими проблемами шла к тому, что в Нью-Йорке заменяло оракул друидов, — к ирландскому уличному регулировщику. В каком-то смысле, сдается мне, на открытие Бесси и впрямь как-то повлияло пресловутое «ирландское счастье». Но это явно не все. Например (не в тему, но мило), мою мать никогда ни на какой широте выражения нельзя было назвать заядлой читательницей. Однако я видел, как она входила в роскошный книжный дворец на Пятой авеню за подарком одному моему племяннику и выходила оттуда с изданием «К востоку от солнца и к западу от луны» с иллюстрациями Кая Нильсена;[356] если бы вы были с нею знакомы, решили бы, что наверняка она вела себя, как настоящая Дама, но с крейсирующими услужливыми продавцами держалась прохладно. Однако давайте вернемся к тому, как мы выглядели в Юности. Сами себе — независимо от Бесси, а также друг от друга — мы начали покупать одежду, едва разменяли второй десяток. Будучи старшим, Симор откололся, так сказать, первым, но я нагнал его, как только представился случай. Помню, я отбросил Пятую авеню, словно холодную картофелину, едва мне исполнилось четырнадцать, и направился прямиком на Бродвей — если конкретно, за покупками на Пятидесятых улицах, где торговый персонал был настроен слегка враждебно, и это еще слабо сказано, однако способен был оценить по виду входящего прирожденного франта. В последний год, когда мы с С. выходили в эфир — 1933-й, — каждый эфирный вечер я появлялся в студии в светло-сером двубортном костюме с огромными подбитыми плечами, в темносиней рубашке с голливудским воротничком-«шалькой» и в том шафранно-желтом галстуке, который из двух одинаковых, что я держал на все официальные случаи, был чище. Честно говоря, никогда ни в каком облачении не бывало мне лучше. (Я подозреваю, человек пишущий никогда по-настоящему не избавляется от своих старых шафранно-желтых галстуков. Рано или поздно, мне кажется, они всплывают у него в прозе, и тут уж, к бесам, ничего не попишешь.) Симор же для себя подбирал великолепно методичные наряды. Главная же закавыка — ничего, ни костюмы, ни особенно пиджаки, никогда не бывало ему впору. Он, должно быть, делал ноги — вероятно, полуодетый и уж точно не расписанный мелком, — стоило к нему приблизиться кому-нибудь из портных-подгонщиков. Пиджаки на нем выглядели кургузо либо мешковато. Рукава либо висели до костяшек больших пальцев, либо не доходили даже до запястий. Брюки сзади обычно бывали едва ли не хуже некуда. Иногда они даже внушали священный трепет: будто задницу 36-го размера, как горошину в лукошко, кинули в штаны 42-го. Но тут следует рассмотреть и другие, более солидные аспекты. Едва на его теле оказывался предмет одежды, Симор утрачивал любое земное его осознание — исключая, быть может, некое смутно-техническое представление, что он больше не голый. И то был не просто признак инстинктивной или даже фактически-доказумой антипатии к тому, что в наших кругах называют «щеголь». Раз или два я ходил с ним за Покупками, и мне кажется, когда я оглядываюсь на те разы, что одежду он приобретал с легкой, но для меня приятной долей гордости — так молодой брахмачарья, новообращенный индуист, выбирает себе свою первую набедренную повязку. О, странное это было занятие. И стоило Симору по-настоящему что-нибудь надеть, с одеждой этой вечно становилось что-то не так.